Валерий Мошкин. "Начинание поэта"
Беседы Александра Путова с Михаилом Шварцманом
Александр Путов. "Концептуальное платье"
 Михаил Айзенберг. "Ваня, Витя, Владимир Владимирович"
Михаил Айзенберг. "Ваня, Витя, Владимир Владимирович"
Продолжение следует…
|
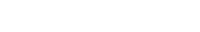 |
Валерий Мошкин. "Начинание поэта"
стихи 1967-68гг.
***
О! Боже! Как люблю я Украину.
И, может, кто сомнения оставит,
Что жил на свете старый добрый аист.
Что простоял над жизнями, не каясь.
Днепро. Ромашка. Куст зари багряной.
С бандурой глаз пройдусь по шляху брысь.
Машет мне ветряк моей души крылатой.
И манит на поля синеющая высь.
Под сечей рук тяжелейшие годы.
А под ногой раздавленный ковыль.
И, может быть, тоску мою склевали дрофы.
И, может, в камышах не слышен жалкий писк.
Рушник ли, мама, сыну вышиваешь
Иль белой птицей в горенке сидишь.
И глиняный наш пол от слёз не просыхает,
И стонет сад от бешеных ракит
Какое в хате утро
И крынка молока, и незабудка.
И малоросска с жгучими глазами,
И крытый стол с большими кавунами.
И до краёв галушками набита миска.
Стоит в слезах холодная горилка.
И поцелуй украдкой между нами.
Вишневый сад, застеленный коврами.
О, Боже, как люблю я Украину.
И малороссов тихую могилу.
Течет Днепро солёными горбами,
Роняя пену между валунами.
Я в Киеве гостил. В собор Софийский,
В него я заходил, как сын российский.
Роняли тополя мне пух на темя,
И мощами жила душа моя в то время.
Мечта
Где плачет листопад
в глаза Днестра,
прощай мой старый дом,
прощай вода.
Под градом тополей я
распластал крыла.
И щелкнул соловей
у строгого крыльца
Прекрасная мечта
имеет свой предел.
Она мне маята
и горе и прострел.
Под куполом небес
светилася звезда.
И бык от крови сел
у черного кола.
Прощай моя мечта,
меня не осуди.
Упали в города
свинцовые дожди.
Над статуей любви
кружилось вороньё.
Светились фонари
на бедное жильё.
И я один мечтал,
и было мне тепло.
Ломилося в груди
живительно ребро.
И Ева на снегу
звонила мне.
И было то в пору,
когда подтаял снег.
***
О, мой Пушкин, во времени так тяжело,
что стенает крылами живое искусство.
За окном во дворе всё дано потекло,
и грачи улетели с червями во клюве.
Я любимой сказал, чтоб она не ждала,
чтоб она улетала за новым искусством.
А она обломала обои крыла
и со смехом упала в раскрытые чувства.
А снег летел, как красная гвоздика.
На церковь, что стояла за прудом.
И на мгновение открылася страница,
где шёл Иисус с наполненным ведром.
Ни мудрости и жалкого призванья.
Он нёс двух чёрных с белым голубей,
где две старушки бились лбом о паперть.
Им вспомнилось, что на дворе Николин день.
И на гудки слепых автомобилей
Им отвечал Христос, взведя персты,
Что жизнь погибнет в испарениях бензина.
А где-то цвёл в садах Ирусалим.
***
Зачем тебя я вытащил из хлама
церквей гниющих и забытых риз.
Зачем поставил два стакана
Цветов, мне бесконечно дорогих.
Открой глаза, старинная икона,
твой взгляд сильнее белых докторов.
В них боль и гнев убитого народа.
***
Последняя улыбка между нами.
Последнее пожатие руки.
И черная звезда над этажами
роняет свет на волосы твои.
Я знаю, что тебя я не увижу.
Я знаю, что расходятся пути.
Последняя метель над нами движет.
И заметает нервные следы.
***
А потом казнили на рассвете,
может быть, в глаза закат пылал.
Юноша молился не о смерти,
соловей на дубе защелкал.
Он рыдал о бешеных березах.
Он свистел о крови на полях.
Утро распускалось алой розой.
Черный пепел в тумбах завевал.
Мы с тобой простились очень рано.
Я тебя, наверное, любил.
Золотая туча, донна Анна,
пролилась на кровь живых могил.
И, не смея жизни улыбаться,
от людей не требуя венца,
я хотел бы к небу подниматься,
на земле оставив подлеца.
Но тебя живую возле клёна
я схватил за белые персты.
Улыбайся вечности, гулёна,
смерть кидает чёрные хвосты.
***
Один я плетусь на чернеющий мост.
И взгляд опускаю в воду.
О, как мне хочется в водоворот,
сбросить безумные годы.
Когда моим усилиям настанет предел?
Когда же меня настанет?
На ком опочил волосатый венец
убитого на пьедестале?
***
Виноградные гроздья люда
обвисали на жёлтых елях.
О, как хочется мне стакана.
Надоели зимой метели.
Я охотник до белок плохой.
Но мне дроби для них не жалко.
В небо бухнул вчерашний запой.
И гремит по весне берданка.
И лицо моё всё в синяках.
От тех слёз февраля и марта.
И над вербой рыдал закат.
И душа моя жила разно.
Убежала она тропой.
Улыбалась звезда венчальная.
Я по талой воде брёл домой.
Нёс подснежник и крылья зайчика.
А потом напекли блинов.
С белым груздем давили водку.
О, как хочется мне весной
каждой веточке дать по ребенку.
***
На твои ли ласки я отвечу мольбой.
Там, где русские сказки в лес заходят гурьбой.
Танец красной смородины. Губы синих елей.
Тосковала под ольхами пара грустных зверей.
Твои брови разлётные. Твои брови казнят.
Словно боровы чёрные скачут в поисках драк.
И со смехом от плача, грудь в ладонях измяв,
Твоё чувство металось среди скошенных трав
А потом по дорогам улетал твой платок.
О! Прощай, недотрога, я твой черный гудок.
***
Любил тебя за маяту.
За губ твоих живую мену.
Когда-нибудь я расскажу,
как ранят черные измены.
Проходят стройные дожди,
а на крылечке заедают
ослепшие от боли дни
и страшный в горе одуванчик.
Что делать мне среди берёз,
когда тебя со мною нет,
когда залаял черный пёс
на красоту твоих побед.
И только осень на дубах
роняет листья в бабье лето.
А где-то стонет на полях
от страсти трепетное тело.
Любимая, скажи, за что?
Что я плохого в мире сделал?
Мне снеги бросятся в лицо,
и запорошат снеги тело.
Какая туча в небесах!
Какие звёзды схоронила.
Что хочется сойти мне в Ад
за телом милой.
Но верба тихая в снегах
звучала голосом от лиры.
И пели птицы в небесах,
рождался новый день у мира.
Мы встретились с тобой в садах.
Тебя я больше не обидел.
Пропал навеки синий взгляд,
но песни трепетные жили.
***
Я бродил среди рыжих кустов
и наткнулся на твой палисадник.
В нору юркнул испуганный крот,
и дышал голубой виноградник.
Молдаванка с монистою шла
по дороге из лунного меха.
Улыбалась кому-то душа,
и цветком распускалося тело.
Ночью встретил её сеновал,
и солома от страсти смутилась.
Мягких бёдер неясный овал
белым мясом елозил под милым.
И со смехом взглянув на луну,
молдаванка супругу сказала:
"Ты люби меня крепче одну,
чтобы краше и лучше я стала".
Молдаванских ночей маята
спелой вишней на губы упала.
Тосковала по ком-то душа,
задохнувшись в ночах сеновала.
Молдаванка поутру ушла,
молока выпив красную кринку.
Я бродил в самом сердце села,
собирая опавшую сливицу.
В городах я забыл про неё.
Но, купив на базаре монисту,
оживил на прощанье лицо,
в черных крыльях волос Маринику.
***
Я поклялся ночью не ходить
в тех садах, где распустились маки.
Серебрятся мокрые следы.
Слышен лай строжевой собаки.
Мы с тобой роняли на мосту
красный мак, что приплывал обратно,
а потом глядели на луну,
и ушли с зарёй, расцеловавшись.
Но проходит женская любовь,
и стареют жёлтые матрасы  . .
Захлебнулась тульская гармонь
от тоски в воспоминаньях наших.
И в садах не свищет листопад.
Без тебя мне стало очень грустно.
Я иду один в наш белый сад.
Красный мак отцвел среди капусты.
***
Там, где плачет ракиты куст,
там где устье разбитых уст,
там слетает с любимых плеч
соловьиная речь.
***
Ко мне вошла Офелия с цветком,
в то время был в больничном я халате.
Нас разделяла с ней стена веков
и злобный вой больничных стачек.
Я с нежностью к ней руки протянул.
Она цветок тот бросила к постели.
И в жёлтом доме проломились двери,
и вышел я к любимой на крыльцо.
Нас встретил гвалт сорок и белок.
И я повел Офелию домой
сквозь все преграды глаз и елей,
шиповника, мяуканье метели,
глумление и злобы над собой.
Потом она женой моею стала
и пела песни в замке чудака.
Потом она в портрет вписалась,
и горькая пролилася слеза.
Она была иной на том портрете,
она похожей стала на змею,
и глаз ее горел, как свечи,
а пламя свечек уходило в тьму.
О, почему, Офелия, так страшно
мне стало жить на огненном ветру?!
О, почему, Офелия, напрасно
я не повесился на первом же суку?
Змея, шипя, в пространство уползала.
Потом как плюнет в синий мокрый глаз -
Сияние! Кольцо таланта заблистало!
Яд пролился, Офелия пропала,
и показался райский сад.
Она была в нем белою синицей.
Она была в нем первою женой.
И Гамлет к ней с любовию склонился,
и небо охраняло их покой.
Художник спал. В нем жизнь переменилась.
Жена с улыбкой штопала носки.
Палитра сохла. И на смежённые ресницы
упали с ночи белые снежинки
и пели об Офелии стихи.
***
Династия носов,
великих дирижёров,
плешивых мудрецов
без искренних укоров.
Культурное говно
в российской луже
художничает, падло,
на этой стуже.
Но будешь ты средь нас
не самый первый -
сначала жил-был Бах,
потом модерны.
Потом уж родился
в больших сугробах
Аносовский портрет
в последних "Модах".
Но я тебя люблю,
за что, не знаю,
быть может, жалея,
понимаю, что Паша
пашет. Пашет! Пашет!
А другой засеет,
и вырастет петрушка
с сельдереем.
А Пашин "Твист ту гейн"
её похерит.
И славу пропоёт
Аносовскому носу,
красивому, как плоть
сопливому народу.
***
Вечные шизоиды,
Сукины сыны,
горькие пропойцы
на руках страны.
Она их приласкает,
к сердцу прижмет,
а потом, как бросит
гения об лёд.
Бейся в падучей,
гордый человек,
и, живя, помучайся,
чтоб оставить след.
В голубой ковыли,
в золотой траве
или в песне милой
обо мне.
***
Перед тобой любимый ученик
закрыл глаза и внемлет слову.
Его рождение был стих,
который бы дошёл к народу.
В его душе свеча горит
и пламя воск не растопляет.
Но творчество ему велит
поэзию оставить.
Он пред миром не открыл
загадочные строки,
но он у мира полюбил
тяжелые дороги.
И над весною он стоял и улыбался.
И перья птице расправлял и не смеялся.
Вот та игра, что свечек стоит,
что вам, поэт, сказать, то быль находит.
***
От героя остался два темных пятна
на заглавном листе неоконченной книги.
Героиня его была чем-то больна,
и её без него схоронили.
Он подолгу молился и горько страдал
в жёлтом доме, как в новом Аиде.
И по пятнам уборной её вспоминал,
и не вспомнил, пока не убили.
На кровать он забрался и горько кричал,
что теперь он зелёная бородавка.
Ну, а голос в хребте ему резко сказал,
что была она в жизни весталка.
И когда темный труп крематорий принял,
и ушли от него санитары,
его дух над трубою её повстречал,
и взвилась над Москвою прекрасная пара.
***
Мой дом - моя больница.
В нём дух не запылится,
и женщина, как птица,
взлетает к потолку.
И пусть сто одиночеств,
сто женщин, сто рабочих
придут и удивятся
такому чудаку.
Я им скажу, берите,
и нежно берегите
крылатую, как птица,
прекрасную мечту.
***
Дара пророчеств я не имею.
Жизнь, извиваясь, змеёю скользит.
Боже, на что я ещё надеюсь?
Дай же мне факел погасшей зари.
Мрачно иду я по черным ступеням,
факел погасший сжимая в руке.
Если бы мог я сорваться в бездны!
Бездны находятся в голове.
Только меня уж никто не обманет.
Ветвь виноградная! Дом золотой!
Что же ты, царь, под короной роняешь
глаз виноградный на жёлтый раздор.
***
Бей по струнам, лукавый цыган.
Туз бубновый в гаданьях мне вышел.
Я поставил на красный обман
черных ягод и пьяных вишен.
Догорела душа уголёк.
В чан с холодной водой опустилась.
Но цветёт на полях василёк,
как глаза твоих синих улыбок.
И бежал я за светлой луной,
за весёлой и новой подружкой.
На деревне чужая гармонь
разрыдалась над пьяною кружкой.
И забредил хмелеющий сад.
И застыла в ветвях птица ночи.
И на землю кружил сарафан.
Её грудь улыбалась на ощупь.
О, Мария! В слезах золотых
есть солёная грусть и отрава.
Разлучают с тобою дожди,
отзвенят пятаками у сада.
Капли жёлтые на стекле
залетают на подоконник.
На моей распростертой руке
умирает в крови подорожник.
Бей по струнам, лукавый цыган.
Жизнь имея, посеял я муку.
И свинцовую боль у виска,
что стреляет вином за подругу.
Может утром Марии письмо
распечатает злой подоконник.
На дворе замело, отмело,
и ушли за судьбой почтальоны.
***
Хорошо иметь свою подругу.
Вечерами книгу полистать.
И, на сердце не посеяв муки,
ей в любви о нежном рассказать.
Много или мало не сказала,
над зимой промчалася луна.
На деревне яблоня качала
два комочка тёплых снегиря.
Тарону Любви и Надежде
(Отдельный стих)
Люди!
Глядя на вас живой,
Я говорю слогом.
Тот, кто со мной,
Встань и гляди в оба.
Вместе мы шли гурьбой.
Много тоски и хвори.
Милый, пора домой
Около нас тревога.
Дай, расцелую тебя,
Как томик стихов поэта.
Ростом я с полвершка,
Я тощ, как тень от скелета.
Милый, не верь, я домой
Уйти могу только с тётей
Действуй антихрист твой
Не было бы только чёрта.
В.К. (Ивану Кроленко)
О, архитектор, отзовись!
Мне небо выпило зелёны очи.
И рукава, как стая птиц,
Несут меня в Эдем и к ночи.
Я полюбил Ивана неспроста,
Его душа, как ветвь, могучая.
И нет в нём склизкости от подлеца,
Но есть зачатки равнодушия.
Давай молчать, когда враги
Готовят ядерные пушки.
Давай молчать, когда враги
Порубят древние церквушки!
Архитектура, без тебя
Нет человека и поэта -
Деревня есть, землянки есть,
А в них Ванюшины скелеты.
***
А я всё злее оттого, что двум поэтам повезло.
Я их любил, у них учился. Разоблачил и не явился.
Мне чёрный ворон наказал: "Молчанье, парень,
Божий дар" - я молчу.
***
Мне буддийская Венера шепчет лунными ночами:
"Выйди в джунгли, мой любимый, встань, как Будды
изваянье".
Я не Шива, чтобы видеть Ганга мутное теченье.
Я не Муни, чтобы слышать в джунглях сладостное
пенье.
Лотос жизни обнимая, я несу его сквозь рощи.
Может, Буддою я стану в сердце русской
колокольни.
Мне буддийская Венера шепчет ласково ночами:
"Я верна тому, чьё сердце мне верно и без
печали".
Россия
Я один на один
и со славой, и скорбью.
И с наядой лесов,
земляникой полян.
О, прости мне, Россия,
я останусь покорный
и немного чужой
для тебя хулиган.
Как я сгорблен, смотри,
как надменен в желаньи,
подойти поклониться
твоим городам.
Ой, ты, Волга-мать,
святое собранье
рек Европы и светлого,
светлого дня!
Рассмеялся я, раззадорился.
Поругался я даже с птахою,
что на ветке поёт
о любви и горе,
и о черных глазах
молодого пахаря.
О, прости мне, Россия,
я останусь покорный
и немного чужой для тебя…
Я со славой и скорбью, конечно не [стою]…
даже малой песчинки твоих тополей.
Письмо к Талмуду
Я собирался крест построить
из красных пятен сургуча.
Тут фиолетовый разбойник
подал горячего коня.
И я готов на Палестину,
за гроб Господень хоть сейчас.
Лишь строчку допишу малиной
и резедой бесцветных глаз.
Лечу к раввину, скольжу по камню.
Какую мудрость мне передаст тростник?
А белый старец роняет камни,
в бездну гонений руками ракит.
Над Палестиной нет старых храмов,
а ветвь маслины гудит в веках -
"Над мертвым морем, в соленом прахе,
меч римлян гонит в пустыни нас!"
Я собирался крест построить
из красных пятен сургуча.
Тут фиолетовый разбойник
подал горячего вина.
Весна на иконах
Весна на иконах - так не бывает.
Кто-то смеётся, а кто-то страдает.
Шлют мне в Печёры красную рыбу,
берёз бересту и пламень-малину.
Страдают святые скиты.
Страдают святые отцы.
И где-то над ними горит
звезда Севера.
А к морю где-то путь
пролёг через чахлый лес.
И тундры холодный свет -
сиреневый след побед.
Луга заливные гудят
и спит одинокий крест.
Церквушка на курьих ногах
несёт Кощеев рассвет.
Страдают. Страдают.
Страдают святые отцы.
И где-то в ночах горят
цветы Севера.
И, может, больные скоты
в мычании привлекут
внимательный взгляд луны
и метеоров гул.
Охотник за нерпой ушёл,
а где-то девятый вал.
Я, Север, тебя нашел
убитым, как зверь, наповал.
О, древнее, кто в уста
вложил мне солёный плач?
О, новое, кто палач -
среди рудников и дач?
И в ландышах города,
и новое всё в кино,
и мир улыбается нам
скитами поверженных зол
***
Грустная музыка мной овладела.
Пальцы могучие звали Шопена.
Ночь с укоризною звёзд и рассвета
в окна глядится нотой Шопена.
Я не печален, так показалось.
Мёртвые пальцы коснулись рояля.
И ветер гуляет скрипкой на поле.
И музыка рвется к живым на просторе.
***
И когда на катафалке повезут меня усталые
колёса, я сойду на полустанке, там, где лес и
пенье леса.
Я пожму ладони тёплые веточкам рябой осины, и
душа моя, как облако, будет плакать над Россией.
***
Больше, чем небо и руки земли
я принимаю скорби твои.
Скоро, скоро свиданье
с полною чашей страданья.
Куда уплывают светлые дни,
под парусом алой, далёкой зари?
Скоро, скоро свиданье
с полною чашей страданья.
Я провожаю людей или птиц,
я понимаю их скорбный язык.
Скоро, скоро свиданье
с горькою чашей страданья.
И даже деревья - весны маята
не могут залить, долюбить до конца
полную, полную пламени
чашу земного страдания.
***
Золотая маска бога, в дуновенье исток духа.
Ты печаль или дорога тех, кто думает и любит.
Золотая маска бога, что за ней, узнаю первый…
Постучусь я у порога, смерть мелькнёт,
и будет встреча.
Поэзия
Не презирай. Не убивай меня.
Я жизнь прожил, себя измучив.
И в этом есть укор и случай
для подлеца.
Да, убит без тени и возврата.
Да, убит насмешливым врагом.
Поэзия, я был твоим солдатом
на дюнах жизни, там, где жёлтый дом.
И пусть спешит тяжёлое забвенье,
возьмёт меня и тощую тетрадь.
Прощай, поэзия. Прощай, мои сомненья.
Прощай любимый горе-Пастернак.
Не презирай. Не оставляй меня.
Оставь для слёз свободное теченье.
О, сколько кораблей поэзия дала
для океана тихого спасенья.
Апокриф
Я не апокриф и не враг тебе.
Гляжу, как ночью враг крадётся.
За месяцем его мечи
и тусклые, как ножны, окна.
Я голову на плаху положил,
и пусть топор гуляет по раките.
О, голубика, сколько сил
отняли тщетные молитвы.
Я не апокриф и не враг тебе.
А кровь, то бычья, то малины
зовёт к немедленной войне
со злами зла моей России.
Да, голубика, сил уж нет,
и где зелёный пограничник
упал прошитый, как рассвет
рушник, расшитый под малину.
А я по улицам бегу.
Как аист, тихо припадаю
и на одной ноге стою,
и людям счастье пожелаю.
Пусть я горбат, пусть одинок,
но мне борьба за хулиганство
осталась кистенём у ног
и выстрелом в ребро и царство.
Да, кто имеет среди нас
одно б, хотя почётное раненье.
Война прошла, и много глаз
глядят с тоской и длинной ленью.
Любить кого? Любить за что?
Могилки дёрном убирая,
я вижу, как скелет войны
смеётся надо мной и тает.
Ему, писателю во сне
приснились чудо-гонорары
И он кропает о войне
под звон и бряцанье гитары.
Шаги, шаги, вас узнаю -
вы входите, я кверху руки.
Для тополей я не смогу
послать последний зов и муки.
Любить кого? Любить за что?
Мне мыслей насекомых стая.
А тот писатель о войне
и о друзьях убитых вспоминает.
Друзья, я плачу, коль найду
в вас червоточину предательств.
Друзья, я водку с вами пью
и чувства нежные не трачу.
А тот писатель о войне
кропает странные сонеты.
И солнце опалит на дне
всю жизнь измученной планеты.
Никто так не печалится о ней.
От мудрецов земли ложатся тени,
и истина моих друзей -
в неволе жить с орлиной песнью.
Я не апокриф и не враг тебе.
Усталость ляжет на колени.
О, этой женщины вина
и пламя обгоревшей двери.
Но почему тоска людей
зовётся божеством?
Но почему глаза людей
не видят страшный сон?
Гурьбой уходят дни мои
прожженных глупых лет.
Я не держу, пускай идут,
оставив лунный след.
Луна, а был ведь раньше мамонт
и шкура предка
звала кого-то генералом,
вождём и вербой.
Ранимы мы, и кто поможет
весне тяжелой
вдруг стать спокойной и суровой
весной гармоний.
***
И солнца выльется сияние
На черноту моих полей.
О, жизнь моя, ты созиданье
романа красных тополей!
***
А песня лебедем рванулась
из туч свинцовых за кордоны.
И ты ей нежно улыбнулась
с глазами полных лун и моря.
О, лебедь чёрный, в моих дубравах
забились тёплые ключи.
И вальс осенних красных листьев
танцуют веточки осин.
***
Голубая надежда, я с тобой повстречался
в свете раннего утра белых, белых ночей.
Феникс ночью сгорает - в лапах белого утра
и крылом задевает мысль холодной воды.
Я иду Ленинградом по долинам проспектов
и под арками русской и немецкой души.
Отпусти обезьянку поглумиться над чувством. -
Вот и Зимний, как в сказке, в розе северных Дум.
Не пойду я на пирсы. Не взойду на Голгофу.
И Исакий так мирно улыбается мне.
Это кости и остров, уплывающий остров.
Крест единственный в муках о минувшей войне.
Голубая надежда, я с тобой повстречался
в свете раннего утра, белых, белых ночей.
Научи не бояться обезьяньего чувства
от врагов, что придется защищать Цитадель.
***
Я не понят, не признан. Не растаскан толпою.
И на горло песен не ложил петлю.
Кровью веток наполню я сонеты историй.
И уйду, как никто из вас, в голубую звезду.
Мне маячит калитка в сад из белого дыми.
И задумчивый ангел пропуска не даёт.
Вот колючие нимбы опадают с ракиты.
Вот росою умыла дева белую грудь.
И никто не смеётся над её красотою.
И никто не стреляет в спину розовых бурь.
И фашисты уснули, как старые совы.
Как надменные совы они смерть принесут.
Я не понят, не признан. Не растаскан толпою.
И на горло песен не ложил петлю.
Я проснулся в смятенье среди улиц и гула,
В сердце красной росинки голубых площадей.
***
Скользит метель по мостовой
и грузно, грузно оседает.
А я стою, как часовой
и смерть свою не допускаю.
Ворота настежь и дома
покрылись розовым рассветом.
И ждёт любимая страна,
как грянет выстрел в парапетах.
Никто меня не пожалел.
Никто не вышел на подмогу.
И только чёрный кот глазел,
как я лежу распятый болью.
***
Я жизнь гляжу и вижу в ней себя.
Она не росчерк лебединый.
В ком истина, тому и я
несу букет живых кувшинок.
Кто я, мечтатель иль скопец?
Ответит тот, кто знает тяжесть.
Он даст мне имя и венец.
И поцелуй, как ночь, протяжный.
Я не ропщу, что в мире зло.
Что смерть людей весьма ужасна.
Есть истина. И есть вино.
И поцелуй, как жизнь протяжный.
Горит свеча, и я молюсь.
Но образ твой Творца и Дамы.
Гори свеча, я не боюсь,
что жизнь пришла из пошлой драмы.
***
Ежевика, Ежевика, поживи и ты с моё.
Ты полюбишь, Ежевика, взгляд мой беглый
ни во что.
Нас с тобою смерть приветит. Ежевики куст не вечен.
Ну, а Вику в поле ветер разметал, целуя в плечи.
И не будет церемоний между мной и Ежевикой.
И не будет Вика в поле целовать меня до вишен.
***
В сиреневый сад. В сиреневый дым.
Полный огня отгремевших закатов.
Она пришла, как новый мир с горсточкой губ -
несравненной Эллады.
О, Афродита, Вас Фидий ваял.
Из пены морской и исстывшего мрамора.
О, Афродита, твой пьедестал
омыли потоки крови океана.
И молча, и молча из тысячи лет
взирает богиня на горе и радости.
И молча, и молча, как воин в пути,
идет человек за улыбкой прекрасного.
В сиреневый сад. В сиреневый дым,
полный огня догоревших закатов.
Она пришла, как новый мир
с горсточкой дум драгоценной Эллады.
***
Задумчив мальчик Чертополох.
О всё о девочке Полыни.
Его судьба до слёз
напоминает мне Россию.
Когда-нибудь среди полей
в сиреневом бреду рассвета
он ляжет на колени к ней
с лицом убитого поэта.
А время, время, как Саул сметает с листьев ветер.
Задумчив мальчик Чертополох, сожгли его хвосты кометы.
***
Я удалён на поселенье от жизни быстрой москвичей.
Глаза не смотрят на поленья, костер горит среди ночей.
Пятнадцать лет ведут конвои
по тюрьмам мокрым, пересылкам.
И слёзы падают в ладони.
И кандалы звенят, как птицы.
Но, утирая слёзы ветром,
я собираю хворостину.
Горят огни по всей планете,
и голоса звенят, как птицы.
Я удалён на поселенье
от быстрой жизни москвичей.
Глаза не смотрят на поленья.
Костёр горит среди степей…
***
Прощай, мой старый граб
и дом в посёлке новом.
И синий листопад
на сквере поселковом.
Под градом тополей
я распластаю руки.
И щёлкнул соловей
в садах над древним Курском.
Не всякая мечта цветёт большим цветком.
Она мне больше одуванчик на дорогах.
Под куполом небес ревёт мой соловей,
и бык направился в свои ворота.
***
А я цветам любви скажу такую речь.
Что на горах обвал - трагедия деревьев.
И ветер аравийский хлещет ветви
и тёмный старый дуб свечёй горит.
И что в чернилах ночи столько молний,
что море кажется мне кротким
и пожелтевшим от стихии великаном.
А я бегу, зажав в ладони уши,
под смех травы и бряцанье каменьев.
Зажав в губах, как просьбу и прошенье
две ягоды небесной костяники.
Январская метель. Последняя метель.
По тропам лунным пройдут туристы.
И будут им цветы кричать:
"Он здесь. Он тут ступал -
цветок любви и эдельвейс долины".
***
Ты прекрасное, одинокое.
Бродишь около, в замке спят.
И мещане, что злые соколы,
тащат в небе слепых котят.
Я ведь знаю тебя, то женщиной,
то прекрасной и старой книгой.
А под небом - всё выстрелы, выстрелы,
и летишь ты лесной шишигой.
Не стучишь ты в замки учёности,
пусть надменные крепко спят.
Мы возьмёмся с тобою под руки
и покинем столичный мрак.
Ты прекрасное. Одинокое.
Бродишь около. В замке спят.
И мещане, что злые соколы,
нам смертельное верещат.
***
Я оставил Вас одинокую.
Ни любви не дал, ни надежды Вам.
И ушли Вы, такая далёкая,
в темень снежную.
Вы горите тем пламенем,
что сподоблен страданию.
И, как листья опавшие,
ветер гонит Ваши желания.
Вы хорошая. Осиянная!
Вы любимая мною женщина.
Пасть останется Вам сияние,
роза вечера, драгоценная.
Серафим
Я тебя за ночку полюбил.
Руки согревал в твоих коленях.
Ты моя мечта и серафим,
ты моё в любви стихотворение.
Нас с тобой вспугнула стая птиц.
Женщина, не улетай, останься.
Я тебя за крылья полюбил,
за твое прекрасное гаданье.
Сколько мне искать тебя по свету?
Горе проливать в ночах седых.
Жарких губ твоё прикосновенье,
синекрылой жизни, Серафим.
***
Я в Китеж вхоже, в городок деревянный,
и чёрные саги слагаю церквям.
Минуту, бояре, и ваши деянья
исчезнут в болоте, как жёлтый туман.
Зелёной осокой и мукой калеки
наполнена чаша моя.
Роняйте, бояре, златые монеты
на паперть из боли и зла.
Дают апельсины и русскую водку.
И в теремах пир горой.
Я знаю, что Китеж уже не воротишь,
но кто возвратит мне покой?
Зелёные Спасы и тени, как барсы,
крадутся в тот домик седой.
Я знаю, что Китеж уже не воротишь,
но кто возвратит мой покой?
***
Девы, девы, девы,
как странно встретился я с вами.
Вечером, закатным вечером,
у барок и лодок причаленных.
Ласково гляжу я на море,
что ещё оно повыкинет,
может, колечко золотое
для светлой и темной рыбы.
Я ль не желаю, девушки,
быть в хороводах первым.
Вечером, закатным вечером
клешни смывает море,
вам запою сирены.
Нежно гляжу я на женщин,
одетых в луны водоросли.
Вечером, закатным вечером,
клешни смывает море.
А море, море бурлило,
Играло дельфином и чайками.
Вот они выходят стройные
на берег и скалы печальные.
Девы! Девы, где вы?
***
Я целую звёзды карие
и губ твоих живую вишню.
И мне с тобою очень весело
пройтись по светлой, жёлтой ниве.
И пусть луна и злые месяцы,
как тысяча цикад.
Звенят большим кузнечиком
у неба на руках.
***
Марины волосы мне крест напоминают,
как листья черные и красные закаты.
Её глаза немного посияют
для бедного поэта в час утраты.
Я знал людей и был, как притча
для бедняков земного рая.
Марина не поймёт, и сердце
одно моё в ночах сгорает.
Но мне нужна ещё палитра
из тёплых и любимых красок.
Я молод чтоб лежать в могиле
красивым чуточку и жалким.
Марины волосы мне крест напоминают,
и для поэта нет сильнее речи.
Людишки лгут и это понимают.
Поэты ж под луною вечны?
***
Выразитель нежных дум,
распроклятый Океаныч,
не жалеешь ли, мой друг,
что ушёл за парусами.
Ах, кому я подарю белую чешуйку?
Ах, кому я подарю осьминога-сруйкую
Среди рыб такой бардак,
как в стране Морковии.
Управляет рыба-рак
нами чернокожими.
Поглядел я, как живут
всякие селёдки.
Захотелось в кабаке
спробовать икорки.
Выразитель нежных дум,
распроклятый Океаныч,
как живётся, милый друг,
за решеткой странной.
Вам, конечно, всё равно,
собираясь к Богу.
А до Бога далеко,
нужен литер к Богу.
Выразитель нежных дум,
распроклятый Океаныч,
не жалеешь ли, мой друг,
что ушел под парусами.
***
Люблю не Вас, а Вашу доброту.
А где ошибки и случайность?
Когда сонеты потекут,
держи за фалды гениальность.
Я всем сатирикам скажу,
улыбки медной не тая:
"Жил Салтыков-Щедрин,
и был в стране бардак".
Живу ли я? Живу ли я?
И я в быту, конечно, вошь,
и домуправ меня сильнее.
А в государстве та же ложь,
и я печатаю шаги у мавзолея.
Люблю не Вас, а Вашу доброту.
А где ошибки и случайность?
И всё же я премного чту
его ошибок гениальность.
***
Опадают листья красные. Опадают листья чёрные.
Я иду один по осени, полный дум нежной осени.
Позади меня Майданеки, позади меня страдание.
Опадают листья карами. Опадают листья чёрные
И никто не знает разумом, когда войны в мире кончатся.
Опадают листья осени на мои и ваши головы.
Полюбил я осень Пушкина. Полюбил я нивы жёлтые.
И стоит любовь над Пушкиным - памятником русской осени.
***
А Биче Данте меня целует за муки и розы на синих глазах.
А Биче Данте над ними смеётся - смеётся и плачет большая любовь.
***
Не цыганскими скрипками, не Романскими девами,
и не злыми улыбками напою я свои глаза
листопадом "Кащенко" - одиноким страданием
отболевшей души. Отзвеневшей струны.
***
И медленно, и медленно среди медных лбов
иду я, читая людям.
И медленно, и медленно прекрасное цветёт
в кругу московских буден.
Кому звезда горит на поле снежном?
Когда проснётся русский человек,
то приговор его надеждам
гнусавит злой, блистательный Дантес.
Века бегут, как тучи над Кавказом.
И Лермонтов, мой гений-Серафим - убит,
к чему теперь наказы, чтоб на Руси
никто уже не стыл!
***
От поэта ждут чего-то сильного,
и поэта жгут Хиросимами.
Под осинами, под берёзами
крест один стоит днями тёмными.
А метель летит белым саваном.
По глазам летит, будто санками.
Вот опять брожу по метели лиц,
по фигурам дней. По улыбкам бед.
И мне русский лес улыбается:
"Оживи, поэт - не раскаешься,
не расквасишься. Не покаешься.
И душа твоя в людях мается".
Культ личности
С портрета нежно глядя,
мой дед уже не гадит,
воды уже не пьёт.
Пуста его аптечка…
Лишь ночь и постовой
покой мой сберегут
под розовой страной.
Политика и гной
пускай текут из рамы
над раненой зарёй,
над раненой страной.
***
Клёны шепчут, тебя провожая.
Много нежности дал тебе Бог.
Моя русская женщина Майя
и мой август солёных ветров.
Вот и клёны шепнули, прощайся.
Я целую тебя невпопад.
Моя русская женщина Майя
с чёлкой ворона - в зелени глаз.
***
Любовь сидит на коленях.
И я целую неистово.
Бог мне глаза открыл
на твоё тело, Мария.
Сколько мучительных лет
провёл я в страдании.
Ты мне награда от бед -
сердца и плоти крайней.
Об этом мечтал Роден.
Мылили об этом Анджело
Та на коленях портрет
неистового Рембранта.
***
Навечно забили грот Дианы.
Куда же уходят античные дамы?
Амурные стрелы я им направляю
и красные стелы до глаз поднимаю
Скользите за озером, тени охотниц.
Бегите за волком, шедевры похотниц.
Ваше купание знаю отменно.
В ваших котурнах бродил я, наверно.
Нет кипарисов, и нет мандолины.
Остались монисты и желтые ленты.
Повязки на бёдрах вы чуть приспустили.
Любите надменно, Дианы, на фресках.
***
Уронил я молодость в синий снег.
Уронил я голову в старый плед.
А под пледом ноги женские.
А над ними губы детские.
Уронил я молодость в синий снег.
И когда тоска не по плечу,
уроню я голову в старый плед,
и о многом горестном умолчу.
***
Надоело. Надоело мне поэтом называться.
Лучше б был я простым и лихим оборванцем.
Я б гонял голубей и кричал под забором:
"Сколько тощих коров бредёт к нашему дому!"
Не печалься, старуха, я тебя понимаю.
Это только тоска по далёкому раю.
Ты согбенна, стара и болеешь ночами. -
Их рога и копыта - большие печали.
***
Не верил. Не верил. Не верил.
Ни в Бога. Ни в чёрта! Ни в двери.
Вопще ни во что не верил! Не верил.
Любимая, я в болезни. Любимая, я при смерти.
У самой черты смерти я к богу земли воззвал!
И вот я уже в долине, среди первозданных лилий.
Среди этой райской сини у самой кромки воды.
И дай тебе Бог столько, нести в этой жизни кротко
Прекрасные, синие сливы, губ твоих и груди.
И, может, осудишь сурово. И, может, забудешь скоро,
что больше, чем Бога, чем Бога любил я твои черты.
Не верил. Не верил! Не верил.
Ни в Бога. Ни в чёрта. Ни в двери.
И только в тебя поверил
в чаду облетевшей свечи.
***
А снег всё падал, оседая,
как гроздья белых виноградин.
И мне весна сказалась рано
на дворике в палитре пятен.
И я хотел не задохнуться
в той кутерьме сорок и веток.
И я, конечно, улыбнулся
всем лужам на дворе планеты.
И пусть лицо моё кочует
в слезах и датах февраля.
И пусть глаза мои учуют -
над вербой красная заря.
Любовь, усталость и отчаянье
бредут, как люди на дороге.
И им горит звезда случайная
весенней голубой тревоги.
Я Вас не часто вспоминаю
Зачем, к чему Вас вспоминать,
когда в глазах большого счастья
забилась тихая печаль.
Любимой Вере в час свиданья
я не дарил живых цветов -
она была, как песнь отчаянья
в глазах и плоти стариков.
А я смеюсь, нет рядом чуда.
Она, как женщина, со мной.
Спи крепко, Вера, нас разбудит
надежда вечера с зарёй.
О, Вера, вера, ты, как пламя,
со мною тихо говоришь.
И руки нежные, как стая
весёлых и любимых птиц.
Беседы Александра Путова с Михаилом Шварцманом
На предмет нашей с Шварцманом беседы 18 июля 1972. (Встреча происходила в Москве. В 1973 г. Александр Путов уехал в Израиль, в настоящее время живет во Франции. Очень большой художник. (Примеч. К.К. Семенова. В дальнейшем все неоговоренные примечания - М. Шварцмана на полях записей А. Путова))
Сущностное изложение его замечаний и мои размышления по поводу их.
- О выходе за смерть (за смертные интересы).
- О моём очередном заблуждении (прельщении).
- О благих намерениях.
- О форме и формализме. (19.06.72)
- О моём тщеславии, засвидетельствовавшемся в большей работе и самолюбии, католич(еской) экзальтации.
- О плотских побуждениях, воплотившихся в рисунке.
- О прельщении ложной святостью (ханжеством), засвидетельствованном маленькой работой маслом, и о различных культурах.
- О необходимости изучения иконографических средств.
- О нерукотворной (возникновении) работе и о свечении картин, свидетельствующих о Духе.
- О недостаточности моего размышления о вялой работе духа (засвидетельствованной в показанных работах).
- О невозможности свидетельств не о себе.
- Об искренности и неискренности.
- Об артистизме.
- О том, что старые работы мои лучше новых.
- О невыхождении из луча (линии духа) (путь судьбы) (попадание в луч).
- Об экспрессивности.
- зачеркнуто
- зачеркнуто
- О модернизме, ряде художников и выходе из него.
- "О человечках", фотографичностии светотени.
- О схимничестве.
- О пикантности работ Стесина.
- О направленности суда на себя. (Внутрь себя).
- зачеркнуто
- Об иконном искусстве, (как их писали, в какой последовательности), о моем непонимании её, о восхищении, о схиме.
Hieratikos - жреческий, священный.
Hierarchia - (служебная) лестница.
Aktus - действие, деятельность.
Forma - 1). Наружный вид; 2) внутренняя структура.
Meditatio - размышление, молитва.
Сущность:
Работа движется молитвой, формируется благодатью.
Духосвидетельство изъявляется актом формы знаков и иерархично (лестнично). |
- Что есть "выход за смерть"? Это решимость умереть для греха. До тех пор, пока грех воет в наших костях и владеет нами, мы не можем свидетельствовать о Духе, но свидетельствуем о грехах наших и о смерти нашей. А кому это нужно?
Мы не можем не согрешать, но умереть для греха мы можем и обязаны сущностью нашего призвания.
Итак, первое, что нужно - это решимость умереть для греха. И пока такой решимости нет, наше свидетельство о себе, как о христианах есть самообман и лицемерие, неискренность и ложь. И все наши дела не могут не свидетельствовать о таковых, т.е. о смерти, НАШЕЙ СМЕРТИ.
Многие ли, называющие себя христианами могут похвалиться решимостью умереть для греха? А между тем, мы "крестились в смерть". По моим работам видно, что во мне еще "ЖИВА" надежда на себя, на пустую людскую славу и плотские страстишки, "жива" надежда на смерть. Но это плохая надежда.
- Из моих работ, в частности, видно следующее: прельщение ложной святостью (ханжеством), тщеславие, благое намерение, не нашедшее своего осуществления, а также сексуальность, под оболочкой внешним образом понятой иконы.
- "О благих намерениях". Благими намерениями ад вымощен. Благое намерение, в сущности, есть притязание на положительность без достаточного к тому внутреннего основания, т.е. лицемерие или своеобразная внутренняя спекуляция, заключающаяся в том, что нечто нравственно малоценное "продается", "подается", выдается за несравненно более ценное, всё те же гробы подкрашенные и "стены подбеленные", одним словом, "РУМЯНЫ". Малоценное, по существу, припудривается с тем, чтобы хотя бы выглядеть прилично, всё то же представление чёрта внешне привлекательным.
Почему говорят, что благими намерениями ад вымощен? Вот я, скажем, хочу создать положительный образ в живописи или, скажем, Гоголь хочет создать положительный образ в литературе, что же в этом плохого? (Гоголевская мысль: бездарность ставит себя в ряд.)
Плохо вот что:
Имеют ценность только осуществленные благие намерения, с помощью соответствующих таким намерениям средств.
Ад же вымощен благими намерениями как таковыми, т.е. оставшимися без осуществления. Нельзя создать положительный образ иначе, чем посредством создания такового в себе. Молитва и пост, решимость выйти за смерть - иного способа нет.
Любая попытка обогнуть эти испытанные средства грозит благим намерениям остаться без осуществления, то есть "благими намерениями".
- О форме и формализме.
Формализм озабочен внешним. Внешнюю привлекательность он ставит во главу угла. Он вскис на закваске тщеславия и гордого себялюбия. Форма в себе. Важна форма. Новая форма во имя ее самое. Во что бы то ни стало надо вырваться в ряд "лучших", т.е. наименее на кого-либо похожих художников. Культивируется внешнее своеобразие, и в жертву этому своеобразию приносится всё, и, прежде всего первенец человека - совесть (Мысль не Шварцмана. (Примеч. А. Путова)).
Формализм - есть культ внешнего своеобразия, художественная форма самоутверждения, содержание которой ничтожно (Т.е. выражение (изъявление) единственного призвания человека - свидетельства о Боге.). Всякая форма есть форма содержания, и за тарабарщиной фактур и методов надо видеть сущностное, а иногда и отсутствие такового. За всякой формой надо уметь видеть ее подлинный смысл, т.е. осуществленные и неосуществленные намерения. Похоже на игру слов, но в искусстве формализма отсутствует форма. Каким образом? А таким, что форма всегда есть форма содержания, и если содержание ничтожно, то, следовательно, в сущности, форма тоже ничтожна, хотя она и не выглядит таковой, но как бы, напротив, весьма значительной и яркой. Т.е. если содержанием формы является "не сущее", то и форма не может быть истинной, но ложной (Фактуры, линейный строй, рождаются безаприорно (непреднамеренно, не заведомо т.е. рождаются, а не выбираются для пиканту, а это всегда видно в результатах дела. В духосвидетельстве всё безобманно и свободно изъявленно. (Духоизъявление).).
Что же есть форма? Слово происходит от "первый", что указывает на долженствование безусловной независимости таковой. Но, несмотря на внешнее сходство с формализмом, здесь присутствует скрытое сущностное противоположение и различие, подобное тому, как разнятся между собой два цветка яблони, из которых первый окажется в будущем пустоцветом, а второй даст плод. Итак, если верно, что форма всегда есть форма содержания (например, дух), то истинной формой в отличие и противоположность от ложной формы формализма может быть только форма, предметом которой является сущее (дух). Истинной формой может быть только та форма, которая присно предназначена к содержанию в ней свидетельства о вечном Духе.
- Работа, в которой, как мне казалось, впервые соединились, (пусть не сплавились) линия, цвет и фактура, т.е. Разум, чувство и воля, на взгляд Шварцмана свидетельствуют о тщеславии и самолюбии, а также о модернизме и неосуществленных благих намерениях. Об этом нужно подумать. Т.е. о несоединении (Благое намерение - умственное (априорное) словесное положение, а не самоизъявление, т.е. духоизъявление.). Мои намерения видны из такого выражения моей концепции, суть которой сводится ко всё большей концентрации сердца, ума и воли в единственной точке, в которой они подлинно соединяются в точке, обозначающей в плане такой идеи освобождение. Освобождение от смерти, "выход за смерть", как это называет Шварцман.
Нет, она не являет еще в воплощении факта такого выхода. Это верно. По тщеславно-пестрой фактуре сделан рисунок двух голов: человека пожилого и помоложе. Причем, тот, который помоложе, облагоображен (припудрен) и пребывает в состоянии "католической экзальтации". Знаками эти фигуры не стали. Это человечки с носами и большими глазами. Хорошо. Что же в этом? Действительно, совершенно точно отмечено, что я старался придать тому, который помоложе, черты благообразия и верно также то, что этому "благому намерению" не суждено было осуществиться.
Я долгое время был уверен в том, что художник суть следопыт рока, и то, что касалось работы, я ни в коем случае не позволял себе как-либо мудрить, пока не поддался влиянию некоторых из своих близоруких друзей, которым непременно хотелось как можно скорее видеть в моих работах просветлевшие образы, святости, причем, некоторые из них довольно требовательно желали, чтобы я не растрачивал свой талант, немедленно приступил бы к копированию если не икон, то хотя бы иллюстраций Дорэ к Библии. (Изложение по благу, но не зрело…) По молодости лет (мне 3 года от рождения) я поддался такой вот дурной свободе.
Согласен, присутствует "благое намерение" выразить святость, будучи вне ее. Что же это, если не прельщение?!
О тщеславии. Тщеславие тоже налицо. Оно присутствует, как манерность и стилизация. Т.к. это первая работа (параллельная нескольким другим), которую я делал долго, и в которой впервые применил лессировки, то я или увлекся в манерность, т.е. в некий прием, который понравился мне до того, что я стал им тут же злоупотреблять. (Какова бы ни была характеристика формы она должна быть ясной.) Т.е. меня прельстили здесь легкость и эффектность приема, а это и есть тщеславие. Стилизация же - это другая форма тщеславия в живописи. Стилизация как бы встает на путь знакового понимания вещей, но идти по нему не хочет и довольствуется на то, что не верит вещам, какими они кажутся нам на первый взгляд, но добираться до сущности их не желает из тщеславия, т.к. боится тяжелой работы духа и намерено довольствоваться более легким успехом.
Господин, который помоложе, приподнял зрачки свои как бы к небу, но думает он о себе. Изображая помысл о Боге, он думает о том, как бы не забыть свою роль. Это экзальтация.
Себялюбие же выражается в смаковании фактуры, которая суть воспоминание всех тех бугров и кочек бездорожья, по которым меня долго трясло в телеге жизни. Но стоят ли эти воспоминания того? "Исправьте путь Господу, прямыми сделайте стези его".
- О рисунке. На рисунке, который я принес показать Шварцмену, изображена "барышня" в кисейной накидке. (Скорее всего, тот, который в книге "Начало художника" между 35-й и 37-й страницами. (Примеч. К. Семенова)) Что в этом? Шварцман заметил, что рисунок попросту сексуален, к тому же, фотографичен и чуть ли не порнографичен, а также литературен и экзальтирован.
Порнографичен, потому что видно любование женскими прелестями, хотя они и не нарисованы откровенно, хотя и прикрыты накидкой и экзальтированным целомудрием. "Зачем рисовать подмышки?"
В самом деле, я вспоминаю, с каким чувством и настроением я рисовал. Среди прочего было и нечто "потное". Потом же рисунок оказался "благовидным". В прошлом я уже замечал подобное: состояние гнева и осуждения, будучи воплощенными в рисунке тоже выглядят благовидно.
Но, скажем, уныние или озлобленность никогда не выглядят благовидно. В этом еще нужно разобраться. Впрочем, до некоторой степени это понятно: кого можно прельстить унынием или мелкой озлобленностью! - это челядь.
Но похотями и гордостью можно. Для этого они выглядят благовидно. Нет ничего благовиднее языческого искусства, а также "возрождения" и его времени. Подумать и об этом. Оно выглядит благовидно, но замешано на дрожжах гордости и похоти. Какова же связь между тем или иным изображением человечков, т.е. плотских телес и языческой гордостью и похотями? Дело в том, что есть тело плотское, есть тело душевное и есть тело духовное. И не надо никогда забывать, что все наши дела свидетельствуют, прежде всего, о нас самих, грубо говоря, мы изображаем самих себя. И третье, что надо помнить, вникая в суть произведений искусства, это то, что они всегда свидетельствуют о нашей любви, интересах и привязанностях, наконец, пристрастиях. Каков предмет нашей любви, и какова она - вот основной вопрос. Каков предмет нашей любви. Свидетельствует ли языческое, скажем, греческое искусство о любви художников к человеку, целому человеку? Нет. Оно свидетельствует о любви, привязанности и пристрастии к плотскому, смертному телу. Нам иногда кажется греческое языческое искусство делом всего греческого народа, но его сделали десять художников. Но что же, может быть, они были восхищены телом к чистой любви, подобно тому, как восхищался телом Сократ? Откуда видно, что это не так? Почему мы можем о Поликлете думать, что это был своевольный, гордый и похотливый человек? Языческое искусство в высшей степени "благовидно…" От меня всё время ускользает сущность дела. Возможно, надо внимательно рассматривать дела этих мастеров, каждого отдельно, скульптуру за скульптурой… Впрочем, я начинаю соображать: тело смертное - суть прах. Но не всякое тело прах. Вот что важно выяснить: отношение духа и тела духовного - тождественны ли они? Впрочем, даже мой небольшой духовный опыт говорит мне, что всякое пристрастие к плотскому телу бренно.
"К праху прилипла душа моя", поэтому я с трудом разумею это? Надо умереть для греха. Некоторое время (до рождения отводы и духа) я наивно полагал плоть, вообще, природу, нечистой. Но нечист был я. Природа же чиста. И траву полевую, которая сегодня есть, а завтра нет Господь одевает и питает с любовью. И нам подобает любить всяческую тварь Божию, но без пристрастия. Что же плохого в этой любви? Для меня Рейсдаль не менее свят, чем Рублев, и не менее, чем тот, свидетельствовал о Боге, хотя изображал только смертное. Таким образом, остается непонятным, как изображение чувственного может непримиримо свидетельствовать против человека? Столь же неясен, в сущности, вопрос и о языческом искусстве - грехи грехами, но тела, пусть даже смертные, даны нам Богом и ничего плохого в таком изображении, как они даны, скажем, Микельанджелло, я не вижу пока.
22 июля 72 г.
- О прельщении ложной святостью - я полностью согласен со Шварцманом. Об этом уже достаточно. Впрочем, кое-что еще. Это уровень Нестерова и Васнецова. Ханжество есть наигранная святость. Любопытно, что наряду с гордостью и похотью она, будучи воплощенной в искусстве выглядит "благовидно". Ханжество есть внешняя, движимая тщеславием, театрализованная святость, игра в святость на народе. Как распознать эту заразу в искусстве за внешней благовидностью? Показателем лжи и неискренности является сама театральность композиции рисунка или картины. (Значимо и незначимо. Означенность…)
Театр и наигранность в жизни, равно, как и все прочие наши житейско-бытейские дела, будучи сублимированными сущностно-адекватно появляются в искусстве. Если в жизни театр, то и живописи - театральное представление его средствами: мимикой, жестами подмостками, освещением, декорацией, экзальтацией, костюмами, гримом, париками, кулисами, аплодисментами и прочим.
Если же быт художника серьезен, всякое действие его исполнено значения и смысла, если в нем отсутствует наигранность и желание аплодисментов от публики, то в его композициях не останется места театру, но знак вытеснит всё это и займет собою всю плоскость.
Если же всю плоскость не займет, то, следовательно, в его быте остаетсяеще место театру и наигранности, т.е., по существу, неискренности, ли, более "благовидно" - артистичности.
Лет десять тому назад мне приходил в голов странный вопрос - в чем сущность значения? Теперь я могу ответить на этот вопрос: В Боге сущность значения. И добавлю: вне Бога "сущность" незначительного и ничтожного.
В Боге мы можем только что-нибудь значить. Вне Бога мы можем только ничего не значить. Искусство, которое ничего не значит, незначительно до ничтожества.
Искусство, которое делает своим предметом значение, достигает своего назначения быть изографическим искусством.
"Значительно" (значимо) и "незначительно" (незначимо) - суть две крайние отметки на шкале религиозного существа.
Натурализм ничтожно-незначителен именно "в силу" отсутствия за его предметностью чего бы то ни было, кроме пустоты.
Иконное, изографическое искусство в высшей степени значительно (значимо), т.к. обозначает само Сущее, т.е. полноту бытия хорошо. Но в чем сущность греческого языческого искусства? Каково его значение? Именно с точки зрения религиозной оценки.
Сущность значения - в бытии для Бога. Незначительно бытие для себя. Но не есть ли языческое искусство воплощением "для себя" бытия? Созданное со всей прельстительной силой? Но ведь это не натурализм, не фотография. За ним ведь что-то (или кто-то стоит?) стоит!? Но как же так! Мы все так любим греков, этих малолетних детей, устами которых глаголет истина. "Прекрасные греческие статуи". Разве есть какой-нибудь иной более подходящий эпитет, нежели общепризнанный - "прекрасное", характеризующий греческое искусство? Эти "плоды просвещения" и похвалы общепризнанных авторитетов и "специалистов" несколько препятствуют заглянуть в существо дела, но, тем не менее, надо попытаться это сделать.
Что это за потрясающая трансформация самых разнузданных похотей в образы "светлых богов и богинь". Говорят, что греческие боги - суть олицетворение "сил природы". Но мы, наученные горьким опытом, хорошо знаем, что искусство есть лишь сублимированный в образы характер быта, состояний, увлечений и привязанностей духа самого художника. С этой точки зрения, изваянные греческие боги суть изваянные образы страстей телесных и "похоти очес": Венера, Аполлон, Дионис, Адонис, Афина и сам Зевес. Хорошо. Но ведь это не натурализм. Значит, школа значений уходит ниже уровня "незначительно" и "ничтожно". Значит, существует негативная шкала ценностей.
Я уверен, что пантеон греческих богов - это образы страстей тела, которому, в сущности, поклонялись греки. Если это так, то остается выяснить, в каком отношении находится такой культ к культам "демонических сил", что "ниже" и что "выше" на шкале негативных ценностей. Здесь надо идти путем нащупывания прочности знаковых структур, ибо мы вступаем в область тьмы. Чуть ниже нулевой отметки я тут же нащупываю аморфные теплохладные образования - хамское искусство - я думаю, это и есть прославленное греческое искусство. Почему я такое предполагаю? Потому что в плане религиозных оценок оно не холодно и не горячо, оно, в сущности, равнодушно и к Богу, и к человеку. Оно и не ненавидит, и не любит. Культ собственных страстей собственного смертного тела - что может быть дальше от Бога, единого Бога, чем такое рассеяние? Но ожесточеннее и холоднее культуры находятся ниже, какая следует за какой, я пока не различаю, но сначала идут хрящевидные тела, за ними форма всё более и более крепчает, аморфного становится всё меньше, но костистость усиливается, кость крепчает, и на самом низу уже кроме костяка ничего нельзя нащупать - культ смерти. Нет ничего холоднее. Но это лучше, чем прохладность. Ибо написано: "так как ты тепл, изблюю тебя из уст Моих). И еще: "о, если б ты был холоден или горяч!" Везде в истории надо замечать рецидивы эллинской культуры рассеяния. Надо замечать их и у себя под носом, в своих собственных работах.
Нельзя не рисовать Венер в состоянии похоти и Аполлонов, будучи внутренне распоясанным. И что до того, что они загримированы под Деву Марию и Самого Христа! Причем здесь это? "но пусть чресла ваши будут препоясаны и светильники горящи".
- О необходимости изучения иконографических средств.
- О необходимости изучения иконографических средств.
Что такое эти средства? Это, прежде всего, материалы, которые оказались пригодными для свидетельств о Духе (Рембрандт великолепен на своем месте.). Это:
- Основы: стены, доски и пр.
- Грунт: штукатурка, левкас.
- Краски: темпера, известковые.
- Кисти, как их сделать.
- Техника: темпера, фреска, мозаика, витраж.
- Скульптура.
- Архитектура (Но это не сущностное, а характеристическое. Душевная характеристика прекрасного. Мало!).
Нужно читать и смотреть. Что именно нужно изучить и рассмотреть? (О лучше-хуже. Что лучше, электролампа или газета? Могущий вместить да вместит. Духовное пространство. Иконная лепка ритмическая, знаковая, где свет и пространство понятия духовные. Светотональная лепка. Среда светотональная, светохарактеристическая, светопластическая, но не светодуховная.)
К средствам также относится и рисунок, и характер фактуры, и лаки, и прочее. Итак, что же нам изучить? Нужен списочек.
Третьяковская галерея.
Рублевский музей.
Книги у Шварцмана.
Книги в библиотеке в рублёвском музее.
Книги у Веры Фёдоровны в Архитектурном институте.
Насчет системы посоветоваться с Мишей (Шварцманов, ККС)
Средства - это чувственно данные свидетельства о Боге. Это также структура канонов. И даже образ жизни изографов. Разумеется, я всё это не умею изучить до своего вероятного отъезда, но хотя бы самое главное. О канонах поговорить с Мишей.
Я целый ряд лет изучал средства живописи. Я надеюсь, что и это тоже не останется без пользы.
- "В работе наступает такой момент, когда картина вдруг начинает вся светиться".
Относительно этого я могу только заметить: надо еще дорасти до того, чтобы это узреть. Увы, не хочется вспоминать, но мне больше знакомо адское свечение.
Здесь время подумать о мнении Флоренского насчет фосфоресценции первичной тьмы у Рембрандта. Так ли это? Правда, момент рецидива язычества у Рембрандта очень силен. Но неужели и здесь обман? Я вспоминаю один из последних автопортретов старика Рембрандта. Светлая-светлая улыбка беззубого старика. "Возвращение блудного сына" и портреты матери и брата. Что в этом плохого? Всюду сияет сама доброта и добродушие, во всяком случае, благообразие налицо.
Почему Рембрандт неизменно приводит Мариенберга в восторг, тогда как я никогда не был им восхищен, хотя вместе с тем всегда мне нравился. Почему у Мариенберга, который считает себя человеком нерелигиозным (и даже менее того) (и в самом деле, мне думается, таковым и является, я часто вижу ту же самую беззубо-добрую светящуюся улыбку старика Рембрандта. В самом деле, Семен понимает доброту, как беззубость, но в этом ли доброта?! "Я в Бога не верую, но я добр" - разве такое бывает? Мне кажется, в Рембрандте много такой доброты. Я это замечаю не для того, чтобы укорить брата моего за "соломинку", когда в моем глазе бревно. Но для того, чтобы и самому не прельститься. "Рембрандт великий, и прочее". Я не сомневаюсь в его одаренности от Бога, но тем не менее, вижу, что отпадение его от духовного искусства велико и глубоко. Чем это можно объяснить? Только восстанием языческого, рассеянием, душевностью и отсутствием сильной духовной работы. Такое рассеяние всегда и всюду появляется в виде смертной плотской телесности, с любовью написанной, фрагментарности, театральности и пр. Пейзаж, натюрморт, портрет, автопортрет… Ну, хорошо, а откуда всё же свечение? Интуиция подсказывает: оно может быть либо сверху, либо снизу. Откуда оно? Флоренский говорит - снизу. Но мне пока ясно, что, по крайней мере, не сверху.
Я пока не могу понять, как это изображение таких добрых старичков и старушек может совмещаться с языческим пантеизмом?
Относительно нерукотворности работы - это один из показателей духовной работы. Там, где видны все "секреты", уловки, притирки, там для видящего видна ловкость рук - а это тщеславие. Работа же духа не рукотворна. Никоим образом не рассекречивается - это тайна духовная.
- О недостаточности моего размышления и о вялой работе духа. "Размышление - подспорье".
Всеволод (Отец Всеволод Шпиллер, духовный отец Александра Путова. (Примеч. ККС).) мне, правда, всегда советовал поменьше думать. Он сказал: "Вы много думаете, а надо действовать. Жизнь - это борьба, делание духовное. Мы все много думаем, а дело состоит в том, чтобы жить". Я думаю, одно другому не мешает, если размышление направлять в нужное русло. В таком случае оно действительно может служить подспорьем для духовной работы. Ведь о.Всеволод посоветовал мне поменьше думать, тогда как мое размышление было замкнуто на мне самом. Итак, нужно думать.
Но главное - это делание духовное, т.е. посильное стремление к тому, чтобы не грешить, всё делать хорошо, не выходить, по возможности, из "луча света", идти по "линии духа", "путем судьбы", а не произвола. Одним словом, писать об этом гораздо легче чем сделать 1-2 шага в этом направлении на ногах молитвы и поста.
- О невозможности свидетельства не о себе.
"Мы не можем свидетельствовать не о себе". Так ли это? Но ведь кто свидетельствует о Духе, тот свидетельствует не о себе? И да, и нет. Тот, кто свидетельствует о Духе, не может не свидетельствовать о чистоте своего сердца, ибо чистые сердцем Бога узрят. Также и в другом любом случае, о чем бы мы не свидетельствовали, в первую очередь мы свидетельствуем о своем сердце и его привязанности к тем или иным сокровищам, то есть, ценностям ложным или истинным. В этом смысле мы не можем не свидетельствовать о себе.
- Об искренности и неискренности.
Что же это, наконец, такое - искренность? Что мы любим, о том и говорим, что мы это любим. Не в этом ли искренность? А неискренность - это когда мы на словах любим одно, а на самом деле любим нечто другое, а иногда и противоположное тому, что любим на словах. В том ли искренность, что мы нечто любим и не стесняемся или даже гордимся тем, что это любим?
Один палач признавался репортеру газеты, что любит свою работу. "Смерть - мое ремесло, и я должен делать его хорошо и красиво. Если я стреляю, то так, чтобы попасть в сердце". Что это, искренность? Нет, скорее, цинизм.
Одна "искренняя" дама в довольно широком кругу сотрудников признается: "Я замужем, но всю жизнь жалею, что у меня не было сильного увлечения, и я надеюсь, что оно еще состоится". Это ли искренность? В том ли она, что я, что думаю, то и говорю, не считаясь с тем, постыдны ли сами мои мысли или не постыдны.
Так и среди художников. Если у кого завелась какая мыслишка, то уже почитается за великую доблесть и искренность, если художник, "как думает, так и скажет". Поистине, "на безрыбье и рак - щука". Действительно, коль вокруг все и вовсе говорят не то, что думают, то такая отвага уже и кажется искренностью.
Но, однако, это не так. Искренность - это когда некто решается оставить в стороне всякую наигранность (артистичность) и позу ради публики и взять на себя ответственность быть тем, что он есть в сущности, т.е. духом ради Бога и своей судьбы. А неискренность - это стремление казаться тем-то и тем-то, но не быть ни тем, ни другим.
Неискренность - это артистизм.
- Об артистизме.
В 1959 году я, наблюдая за собой, заметил, что "я - человек, которого нет". Несколько позже я сообразил, что это означает. Я понял, что "Я - человек, которого нет", значит, что я совершенно отсутствую, как личность, т.е. существо, берущее на себя какую бы то ни было ответственность. Эта странная фраза обозначает совершенную подражательность человека всем, всему и каждому. И, в самом деле, я в те годы чрезвычайно увлекался драматическим театром и готовил себя к актерской работе. Я хорошо помню, что такое осознание себя отсутствующим очень меня тяготило, но, с другой стороны, я точно знал, вернее, чувствовал, а понял только лет 6-7 спустя, что благодаря тому, что "меня нет", я имею в себе возможность перевоплощения во что и в кого угодно. Т.е. я чувствовал, что могу сыграть любую роль: комическую или трагическую, всё равно, именно благодаря тому, что я человек, которого нет. Мне не суждено стать актером, но когда я начал рисовать, то скоро понял, что мои рисунки и картины продолжают оставаться всё тем же самым лицедейством, но уже на другом поприще. Все мои рисунки - это маленькие комедии, трагедии, трагикомедии, а иногда просто шутовство, исполненные не на сцене, а на листах бумаги и холстах.
Артистизм, в противоположность искреннему и серьезному отношению к существованию, есть игра в жизнь, кокетливое любование "своим" даром перед публикой ради ее аплодисментов.
Артистизм ищет славы от человеков, но от славы Божией он далек.
- О различных культурах. (зачеркнуто). 24.VI.72.
Итак, старые мои работы лучше новых, Не смотря на все мои благие намерения. И даже благодаря им. Нужно взять за правило: НИ ШТРИХА БЕЗ МОЛИТВЫ. Старые мои работы при всей их холодности лучше новых тем, что я в них упорно отказывался от любых моих собственных намерений, добрых или недобрых. Это упорство объяснялось тем, что такого рода честность в рисунке позволяла мне лучше ориентироваться и разбираться в событиях, в которых я участвовал, так что мне было не до выдумок.
Теперь же я как бы научился различать добро и зло, раньше же мне было "ясно" в основном, одно: я не должен врать в рисунке - и что "добро" всё же остальное, что меня окружает - зло есть.
Следовательно, отсутствие выдумок и преднамеренности было вынужденным "от некуда деться". Теперь же, когда меня отпустила проклятая нечистая сила, я как бы научился различать добро и зло, в силу неопытности и духовных потемок. Я прельстился преднамеренностью, то есть ложной уверенностью в правильности и искренности таких-то и таких дел человеческих, которые, в сущности, по рассмотрении при свете оказываются не столь благовидными, какими представляются в потемках и на первый взгляд, да еще больному зрению. Вчера я впервые шесть часов подряд работал с молитвой и понял, что попал в истинный луч света.
- О "невыхождении из луча".
Луч высветил все мои духовные немощи и болячки. Не стану сейчас думать о рисунке. Отмечу только следующее: часа через 4 после начала работы я заметил что попал в какую-то египетскую струю". Заметив это, я, кажется, не удержался от предвзятости и утрировал это дело в какой-то мере. Пока об этом не буду, но о главном: НИ ОДНОГО ШТРИХА БЕЗ МОЛИТВЫ! - вот в чем суть нашего дела и путь.
Под работой принято понимать произведение усилия на пройденный путь.
В недалеком прошлом я "работал" часто по 10-15 часов в день, но всегда при этом у меня было ощущение, что работы, в сущности, никакой не было. Была масса впечатлений, в основном, неприятных и болезненных, потом что-то внутри без всякого перемещения и моего личного усилия "переваривалось", и, наконец, я чувствовал, что должен всё бросить, сесть и рисовать, иначе моя голова "лопнет" от напряжения. Всё. В результате образовалась масса "работ". Но работа, как говорят физики, это F*S.
Я попробовал сделать рисунок в состоянии беспрерывной молитвы. У меня ушло на него 7 или 8 часов беспрерывного наблюдения за своими действиями "пером". Т.е. я попытался установить пост охраны, с тем, чтобы, по возможности, не пропустить в рисунок не только бесовские влияния, но и мои какие бы то ни было намерения… Не буду сейчас анализировать, до какой степени мне это удалось, но я должен отметить две вещи: уже через 2 часа такой работы спина моя взмокла от усилия и я хоть на йоту, но продвинулся вперед (или выше) к Богу.
Была, следовательно, произведена некоторая мистическая работа, равная произведению усилий на некий, пусть крошечный, но реально пройденный путь: суть первый шаг. А дальше надо, чтобы правило "ни штриха без молитвы" не осталось благим намерением. Это и будет тогда "невыхождением из луча" духовного света и путем судьбы, а не блужданием в роковой тьме и пошлым "благим намерением" (Пространственная характеристика (признак) знаковый строй.).
Еще мне хочется зафиксировать одно замечание: как я ни пытался рационально представить себе необходимую связь духовно-религиозного искусства и пластической символики или знаковой формы, мне никак не удавалось увидеть этот факт со всей внутренней очевидностью. Но стоили сделать крошечный шажок, и стало гораздо лучше видно, в каких формах пребывают свидетельства о Духе - именно в знаковой форме.
- Равви, где живешь?
- Пойдите, и увидите.
- Об экспрессивности. О знаке и признаке модернизма.
Предметы чувственного мира имеют относительное существование (пребывание о времени и пространстве). Весь мир чувственного в целом, а также каждый предмет этого мира имеет свой характер относительного существования во времени и пространстве. В качестве такового мир сей обнаруживает себя в призраках. В призраках же обнаруживают себя и отдельные предметы чувственного мира. Вот дерево "дуб", скажем, оно коряво-кряжисто, и листья у него такие-то и такие-то. Оно растет, вырастает и умирает. Что в этом?
Как сотворенный Богом мир сей имеет где-то контакт с Сущим вечно и в движениях материальных образований обнаруживает себя сила Божия, но не непосредственно, а опосредованно, в признаках жизни. В признаках же обнаруживает себя в природе и негативная реальность смерти. Я несколько увяз. О главном: то, что просто наличествует, обнаруживает себя в признаках (Здесь не нужно святошествовать.). То, что вечно существует, Сущее, обнаруживает себя в знамениях и знаках. Относительно существующее - в признаках. Абсолютно существующее - в знаках. И траву полевую Господь одевает, и птиц небесных питает, но паче о нас, маловерных, попечительство Его. Поэтому о чем говорит нам искусство (искусство натурализма как знаково - незначительно и ничтожно нашему духу ничего не говорит) в лучших своих созданиях? Оно говорит об отношении к миру природы, как Божьему Творению. Хвалят этот мир на гуслях и псалтири и др., а через это и Творца всяческих. Но чаще всего искусство реализма интересует простое разнообразие характеров материальных образований. Какие веточки и какие листики, какое небо и какая трава. В случае же портрета - какова форма носа, ушей и прочего. Одним словом, признак есть палка о двух концах. С одной стороны, тяготение к знаку (знак), с другой - к "около", "при", к тому, что при знаке.
А при знаке материя, как мертвое. Натурализм это мертвое имеет своим предметом, и потому сам мертв.
Хотя мир природы имеет в себе отдельные точки, пункты знамений о Боге и свидетельств Его попечения и о прекрасном, но мир Сущего ищется в сердцах человеческих. Еще несколько соображений: в слове признак есть указание на мир материальный, который стоит при (знаке), рядом с Богом и служит средством, через которое Господь дает человеку те или иные знаки, знамения и обетования. Поэтому ни в коем случае нельзя сам мир природы почитать знаком, ибо он лишь при нем и простое посредство.
Всё имеет значение в Боге и для Бога. Материя, прах, в себе никакого значения не имеют. Но Дух Божий обнаруживает Свою Славу через них.
Прах сам по себе ни в коем случае не знак, но при знаке, а знак на нем, сущностно над ним, а чувственно как бы нераздельно, в признаках. Но здесь я опять уподобляюсь ученику, который спрашивает Господа, где живешь? Мир душевный мне представляется в чрезмерной замкнутости того, другого и третьего или гипертрофии того или иного. Так экспрессионизм в современной живописи, как в любой другой суть гипертрофия чувств эгоистических и болезненных, мир душевный ("бесовский"). Мир душевный - поистине стихия бесовская, именно здесь свирепствует наиболее вражья сила, здесь среда рассеяния эллинского, здесь происходит вся драма борьбы жизни и смерти, рассеяние жизни, расточение ее, здесь больше, чем в природе признаков жизни и смерти, здесь начинаются пути в жизнь и смерть вечные. О всём этом свидетельствует, в частности, душевное искусство экспрессионизма.
В чем сущность "искажений" экспрессионистских? В тех ужасных внутренних ситуациях, о которых художник экспрессионист вопит, ибо он свидетельствует о собственном умирании, а умирать не хочет, но не хочет также палец о палец ударить для собственного спасения. Впрочем, бесовство здесь преуспевает в ом, что художник, как правило, не сознает, куда его влечет неведомая сила. Ему кажется, что он обличает несправедливость мира сего, жестокость и другое, но это кажущееся обличение. По существу, это обнаружение собственной жестокости и несправедливости, собственного тщеславия и извращенного себялюбия. Вот закваска экспрессионизма. Отсюда большие глаза, которые глядят во вне или чаще - внутрь, но не глубже душевного и созерцают там весь ужас, о котором и вопят, вопят о собственном умирании, которое по бесовским внушениям кажется им неизбежным.
Для экспрессиониста важен внутренний характер изображаемого, т.е. всё то, что он думает о жизни, всему, что им кажется, они находят более, чем достаточно подтверждений кругом, везде и всюду, т.е., в конечном счете, в себе. Это один из тех случаев, когда воля ми сердце не сосредотачиваются в Боге, но на самих себе и одно другому угождает, ради погибели своего хозяина. "Гордое сердце", тщеславие ума и похоти воли - всё служит друг другу. Но весь ужас такой ситуации выражен в воплях экспрессионизма: "Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской!".
Другая распространенная форма душевного искусства - сюрреализм. Суть его - блуд умом, то же тщеславие та же гордыня и самолюбие. Здесь сердце и воля служат "размышлению". В остальном всё то же. Словом, существует целый отряд художников модернизма, который, движимый тщеславием, целенаправленно работает на всё большее расчленение мира человеческого. Из него, этого ряда надо выйти…
- Об иконном искусстве и моем непонимании его. О восхищении. О схимничестве.
Иконное искусство есть прежде всего искусство знаковое. Оно означает Сущее. Ни фотографичности, ни артистичности, ни бесхребетной душевности, ни светотени нет в нем места.
На сегодняшней стадии моего развития, пока разумение мое не соединилось еще с волей и сердцем, я могу поразмыслить об этом, хотя сознаю, что в сотый раз спрашиваю учителя: "Равви, где живешь?" - а идти отказываюсь. Сущее и истинно-значительное не от мира сего, хотя и в мире сем (тоже) пребывает. Впрочем, пребывая и в мире сем над ним пребывает (сущностно). Поэтому поиск Царства Небесного надо начать с установки на отстранение от мира сего, мира смертного. Отстранение от мира сего, в сущности, есть схимничество. Можно жить в пустыне мира и быть монахом. Нужно разделиться с миром смертным. Еще несколько слов об изучении истинных культур.
- Надо смело доверяться восхищению, которое в нас вызывают прекрасные памятники культуры, ибо они могут высоко поднимать нас над землей и как можно больше внимания сему уделять.
- Не надо забывать, как писались древние иконы. Сначала - доличное: одежды, руки - и в конце всего лики. Принимаясь за сущностное изучение иконного дела, надо идти в той же последовательности. В прошлые времена когда мастер овладевал письмом ликов, он получал право на самостоятельную работу, но не раньше.
- О том, как изучать икону и вообще знаковое искусство: прежде, чем пойдешь, не увидишь. Пойди, и увидишь. Идти же так надо: ни штриха без молитвы.
25.VIII.72. О душевном характере формы.
- "Фидий" - хороший художник".
- Рембрандт - отличный, прекрасный художник.
- Об антропоморфном представлении Бога и наивности такового.
- Об инквизиции (Игнатий Лойола).
О том, как ведется работа над знаком в Бюро по 3-м направлениям:
- чувственно-ассоциативная форма;
- метафорически-образная форма;
- духовно-структурная.
Художники отталкиваются от процесса, от места предприятия и т.д.
О душевной характеристике формы (признаке).
О медитативном движении работы.
О формировании акта формы благодатью.
О духосвидетельстве, которое изъявляется актом формы знаково и иерархично.
Об отстранении и большой форме.
О самовыражении и самоизъявлении.
О бездарности, которая силой ставит себя в ряд.
О смерти.
О рождении фактуры, линейного строя и цвет.(ового) строя безаприорно, незаведомо, но не для пикантности.
О разнице между выбором и рождением.
О безобманностии свободном изъявлении в духосвидетельстве.
Благое намерение - акт выбора (а не духоязъявление).
О незрелости изложения, хотя и по благу.
О ясности формы при любой характеристике ее.
О "значимо" и "незначимо", о значенности.
О нравств.(енности) значения ясности формы.
1. О самовыражении и духоизъявлении
В некоторых иностр.(анных) худ.(ожественных) ВУЗ'ах есть курс самовыражения. Когда человеку не дается откровений свыше, он может всё же для того, чтобы прослыть оригиналом, усилием воли выразить свою самость. Гоголевская мысль: "бездарность силой ставит себя в ряд".
Все произведения искусства, которые сделаны не по призванию, свидетельствуют о том, что художники сделали их своевольно, силой (Глазунов, Шилов - К.К.С.). А также о намеренности типа: "Дай, думаю, махну".
Художественная форма своеволия есть самовыражение.
"Духосвидетельство (же) изъявляется актом формы знаково и иератично" (Шварцман)
А акт формы формируется благодатью (Без Меня не может творить)
Сама работа движется медитативно
Форма - суть выражение (изъявление) единственного призвания человека - свидетельства о Боге. (Пусть свет ваш светит пред людьми.)
Фактуры, линейный строй рождаются безаприорно (непреднамеренно) незаведомо, т.е. рождаются, а не выбираются для пиканту, что всегда видно в результатах дела. В Духосвидетельстве всё безобманно и свободно изъявлено (Духоизъявление).
Благое намерение - умственное (априорное?), словесное положение, а не Духоизъявление.
Какова бы ни была характеристика формы - она должна быть ясной. "Исправьте пути Господу, прямыми сделайте стези его".
"Значимо" и незначимо" - суть две крайние отметки на шкале рели-гиозного существа. (Но не оценок). (Однозначность).
О Рембрандте:
Рембрандт великолепен на своем месте. Но это не сущностное, а характеристтическое. Душевная характеристика прекрасного. МАЛО.
"Свечение" Рембрандта - результат светотональной лепки. Среда светотональная светохарактеристическая, светооптическая, но не светодуховная, как в иконе.
Иконная же лепка (ритмически) знаковая. В ней свет и пространство есть понятия духовные.
Относительно "лучше-хуже"
Что лучше, магнитофон или велосипед? "Могущий вместить да вместит"
Пространственная характеристика (признак) и знаковый строй.
ИЕРАТИКА (Положения М.Шварцмана)
- Духосвидетельство изъявляется актом формы знаково и иерархично.
- Акт формы формируется благодатью.
- Сама работа движется медитативно (молитвенно).
- Форма - суть выражение (изъявление) единственного призвания человека - свидетельство о Боге.
- Какова бы ни была характеристика формы, она должна быть ясной (относительно "хорошо-плохо").
- "Значимо" и "незначимо" - суть две крайние отметки на шкале религиозного существа.
- Благое намерение есть умственное, словесное положение, а не духоизъявление.
- Относительно иерархии: "могущий вместить да вместит."
- Так Рембрандт великолепен на своем месте, но это не сущностная, а душевная характеристика прекрасного.
"Свечение" Рембрандта - результат светотональной лепки. Среда светотональная, светохарактеристическая, светооптическая, но не светодуховная, как в иконе.
- Иконная же лепка сущностная, знаковая. В ней свет и пространство есть понятия духовные.
Нач. февраля 73.
- О Канте и Гегеле.
- О ноуменах и феноменах.
- Об артистизме (в хорошем смысле этого слова).
- О взаимодействии частей формы (имманентность).
- О взаимопроникновении феномена и ноумена.
- О критерии (радость и умиротворенность).
- О ступенях остранения.
- О неизглаголанном.
- Готика как предиератическое искусство.
- Готика, как последний стиль.
- Еще раз об атрибутивном искусстве.
- Экспрессионизм как спазм.
- О Малевиче как умном художнике.
- О моей беспозиционности.
- О трепе, п…же и суесловии.
- Три часа говорили о говне (экспрессионизм).
- О Кокошке и Сутине (без этого можно жить).
- О профанации идеи.
- Об инспирации (духовном наставлении).
- О Лермонтове.
- О Браккузи (лучше смотреть источник).
- О Пикассо (шельма).
- Об отношении рисунка к акту духосвидетельства. Душа рвется в жилища Твои, Господи Сил. (цель). Разум выполняет подготовительные функции, дает толчок, а также вносит коррективы в работу на каждой стадии ее, следит, не пошла ли работа по пути артистизма, тщеславия, от экспрессионизма, выдумки и т.д. Разум дает толчок душе в направлении горних высей, но также следит и за полетом, то есть исполняет функцию космодрома, он - стартовая площадка, он же корректирует движение души к своей цели.
- Об имманентности (равносущности) частей формы.
- О Гегеле. О том, что всякое зерно должно умереть, чтобы дать плод. О Сеятеле?
- О Н. Боре, о квантах, об Александре, о прерывности излучений, о возможности физического доказательства бытия Бога.
- О мышлении архитектора (объемами и напряженными структурами).
- О моем призвании архитектора.
- О возможности достичь своей высоты только в плане призвания.
- Надо накапливать мир.
- О еврействе как призвании.
- О моей энергии и практичности.
- О сегодняшней мертвенности неудовлетворенности.
- Об ордене людей духовного порядка. Каталийский критерий?
- О возможности совместной работы в будущем.
- О целесообразности смиренно поработать у хорошего архитектора, а потом подумать о самостоятельной архитектурной работе.
3.3.73.
О духосвидетельстве.
Там, где отсутствует духосвидетельство, там либо запрещают, либо навязывают, лишь бы не оставить места свободе человека (воли) либо "любят", либо "ненавидят" (отвращаются), либо "понимают", либо "не понимают".
Стадии работы
- Фактура (волевой момент).
- Рисунок (мыслительный момент).
- Цвет (эмоциональный момент).
- Духоизъявление.
Последовательность работы
- Фактура (волевой момент).
- Рисунок (мыслительный момент).
- Цвет (эмоциональный момент).
- Духоизъявление.
Александр Путов. "Концептуальное платье"
мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали…
Евангелие от Матфея, 11:17 
Хорошо известна сказка Андерсена  о замечательном портном, который пошил королю такое платье, что все пришли в восторг: и публика, и вельможи. о замечательном портном, который пошил королю такое платье, что все пришли в восторг: и публика, и вельможи.
Такое платье в наш трудный век сшили искусству концептуалисты-постмодернисты. Они изобрели такую «феню», что кудахчут наперебой подслеповатые гоп-куры: «Какой объект! Какой концепт! Гляди, как крутится колесо! Какие кружева, фестончики и аксельбанты!» В восторге дамы: «Как это ново! Каков костюм! А модно как!»
Глядят в лорнет на орган прессы музеи со значительной миной и достоинством, бессмысленно чешет в затылке озадаченный народ: «Это платье выше нашего понимания». Посвистывают в усы комиссары-призёры: «Этому платью нет цены!»
А я говорю вам: «Король-то голый!»
Когда искусство поисков сделало вираж в сторону находок, так называемое «Современное искусство» проехало мимо.
23.XI.97. ©Putov

Раздел в разработке.
Михаил Айзенберг. "Ваня, Витя, Владимир Владимирович"
Впервые опубликовано в журнале «Знамя» 2001, №8
В интервью немецкому телевиденью Владимир Набоков  говорит, что «многое хотел бы сказать о моих героических русских читателях», однако же не говорит ничего. Жаль, было бы интересно прочесть. Ко времени этого интервью (1971) я уже года три был его читателем, не подозревая о собственном героизме. говорит, что «многое хотел бы сказать о моих героических русских читателях», однако же не говорит ничего. Жаль, было бы интересно прочесть. Ко времени этого интервью (1971) я уже года три был его читателем, не подозревая о собственном героизме.
Все произошло как-то сразу. Обычного этапа предварительного оповещения и заочного знакомства, в сущности, не было. Один-два раза это имя промелькнуло в случайных разговорах, но я не обратил внимания, спутав с Нагибиным.
И вот в вестибюле Архитектурного института Иван передает мне, особо не таясь, «Приглашение на казнь», западное издание, парижское - Editions Victor. В выходных данных почему-то отсутствует год издания, но по вычислениям получается шестьдесят пятый. А ко мне она попала, думаю, осенью шестьдесят восьмого. Стало быть, на доставку ушло не так много времени.
Две следующие книжки я получил уже в собственность и за сравнительно небольшие деньги, рублей тридцать-сорок. Сначала «Защиту Лужина», потом «Лолиту». Принадлежали они мне вполне условно: ходили кругами по разным читателям, знакомым и незнакомым. Это называлось «контролируемый экземпляр». Во время их коротких побывок я с огорчением замечал, как неаккуратны эти неизвестные мне читатели. Книжки чернели и разваливались. Особо популярная «Лолита» на одном из перегонов рассыпалась окончательно, была неизвестно кем грубо склеена казеиновым клеем - несколько страниц слиплись - и оделась в самодельный картонный переплет. «Твоя девочка стала совсем мулаткой, но получила обновку», — предупредил меня по телефону Иван. (Телефонные переговоры той поры заметно обогащали культуру иносказаний. А когда началась «переписка с заграницей», эта культура дошла до некоторой даже утонченности.) Потом она вовсе исчезла, та самая любимая моя книжка. По-прежнему неизвестный, но по-своему добросовестный читатель переслал мне в виде компенсации заурядную ксерокопию.
Так и хранятся у меня все русские книги Набокова - в виде ксерокопий или зарубежных изданий. Заменить их здешними изданиями нет нужды, а главное - нет желания.
Жемчужина моей коллекции - вывезенный из Анн Арбора прекрасный ардисовский альбом фотографий Набокова и его семьи, подарок издательницы. Но - странное дело - мне уже давно не хочется кому-то показывать этот альбом. Перелистывание его страниц сопровождает чувство неловкости, что ли, - как будто увидел нечто, не тебе предназначавшееся. Эти фотографии хранят какое-то свидетельство не для посторонних. И я долго не мог понять, какое именно.
В возрастном изменении лица Набокова есть необъяснимая странность. Обычно больше всего меняются черты лица: рисунок нижней его части, линии рта, подбородка… Но глаза, их выражение — все это очень устойчиво и может измениться только в конце жизни, и то не самой счастливой. Часто случается, что мальчик похож на мать, но с возрастом в нем все заметнее проступает отец. (Так происходит со мной.) Но Набоков родился с отцовскими глазами, с ними и жил лет до шестнадцати.
Где-то в Америке, по пути в Америку они снова к нему вернулись - ясные мужские глаза с твердым и охлажденным выражением. Но с ранней юности и до - по крайней мере - середины тридцатых годов глаза у Набокова совсем другие, материнские - зыбкие, гибельные, рукавишниковские.
Так получается, что Набоков-человек родился с отцовскими глазами (твердая прямота, ясность, напор), а рождение писателя пошло по материнской линии. А что потом? Потом надо было спасаться, спасать книги, спасать семью (в такой последовательности? в обратной?). Кто упрекнет человека, не оставшегося на гибнущем европейском судне, тем более - в почти бесплотном мире эмиграции (о котором Набоков издалека вспоминал с такой покаянной горькой нежностью). И уж тем более в России. Разумеется, я радуюсь, видя в телевизоре, как маститый бандюган-литературовед тщетно пытается вытянуть из совсем уже старенькой, к тому же перебинтованной его сестры свидетельство о плаксивой ностальгии, которую братец якобы прятал - из дворянской гордости - от чужих. Но мы-то свои, нам-то можно, сознавайтесь же наконец. Нет, не созналась, семейная закалка сказывается. (Непонятно только, зачем она таких «своих» привечает.)
Но вовсе не все так уж разумеется. «За немногими исключениями, все либерально настроенные творческие люди - поэты, романисты, критики, историки, философы и так далее - покинули Россию Ленина-Сталина. Те, кто этого не сделали, исчахли там либо загубили свои дарования, прилаживаясь к требованиям государства». И здесь, в «Память, говори», и во вступлении к лекциям по русской литературе Набоков как-то слишком озабочен непротиворечивостью нарисованной картины, потому и сводит все оставшееся в России искусство к тем ублюдочным упражнениям, которые еще недавно проходили в старших классах советских школ. Все имена, неудобные обозревателю, не способные вписаться в «краткое резюме», с непонятной легкостью остаются просто неупомянутыми. Имя Пастернака  проскальзывает сквозь зубы, но здесь это автор «Живаго», «который принес советскому правительству столько добротной иностранной валюты». А ведь не только Набоков-поэт часто идёт след в след за Пастернаком, но и прозаик Набоков обязан ему очень многим. Например, особым, основанным на физиологической метафоре остроумием. Ср. «по прошествии века, пустынного, как зевок людоеда…» («Охранная грамота») и «скучен, как предсмертная зевота тупого преступника, зарезавшего ростовщика» («Камера обскура»). Не уверен, что многого стоит и отзыв о прозе Пастернака. О Достоевском Набоков тоже отзывался сами знаете как, но в «Подвиге» очень много «Игрока»: вся любовная линия с другом-англичанином и вздорной гордячкой, которая, как выясняется, именно героя-то и любит. проскальзывает сквозь зубы, но здесь это автор «Живаго», «который принес советскому правительству столько добротной иностранной валюты». А ведь не только Набоков-поэт часто идёт след в след за Пастернаком, но и прозаик Набоков обязан ему очень многим. Например, особым, основанным на физиологической метафоре остроумием. Ср. «по прошествии века, пустынного, как зевок людоеда…» («Охранная грамота») и «скучен, как предсмертная зевота тупого преступника, зарезавшего ростовщика» («Камера обскура»). Не уверен, что многого стоит и отзыв о прозе Пастернака. О Достоевском Набоков тоже отзывался сами знаете как, но в «Подвиге» очень много «Игрока»: вся любовная линия с другом-англичанином и вздорной гордячкой, которая, как выясняется, именно героя-то и любит.
Происхождение набоковской строчки «Какое сделал я дурное дело» слишком очевидно, чтобы стать моим личным открытием. Это, конечно, «Что же сделал я за пакость», переведенная с русского на американский русский. Неплохая шутка, но что-то от неё не весело.
Как будто это не он, кто-то другой сказал: «И когда я читаю стихи Мандельштама  , написанные при мерзостном правлении этих скотов, я испытываю подобие беспомощного стыда за то, что я волен жить, думать, писать и говорить в свободной части мира… Вот те единственные минуты, в которые свобода становится горькой». , написанные при мерзостном правлении этих скотов, я испытываю подобие беспомощного стыда за то, что я волен жить, думать, писать и говорить в свободной части мира… Вот те единственные минуты, в которые свобода становится горькой».
Иногда появляющиеся в разговоре о Набокове иронические обертоны были бы совершенно невозможны лет десять назад. Я думаю, что и сейчас они связаны с повторным набоковским кругом - с американским Набоковым. В Америке родился какой-то другой писатель. Конечно, он похож на первого и прочно связан с ним преемственностью литературных навыков. Но это второй круг - писание по писаному. Кроме «Лолиты», конечно, и - отчасти - «Пнина».
Американского происхождения и кодекс (или комплекс) «чемпиона мира». Ну, не смешно ли. Упорная и по лучшим рецептам работа с публикой и литературной общественностью, на удивление туповатой. С конца пятидесятых — несколько маниакальное, но очень аккуратное выстраивание личного мифа. Память, говори, да не заговаривайся. Но поза олимпийца как раз и доказывает небожественное происхождение.
Чары «Ады» показались сильнодействующими, но уже по-своему, по-набоковски патентованными. «Смотри на Арлекинов», на мой взгляд, довольно печальный итог литературной деятельности автора, по всем признакам гениального. В сущности, это особый набоковский («nabokovi») подвид «нового романа»: писатель способен писать только о своих уже написанных книгах. Прочее его, в общем, не интересует. Полностью выработанная порода.
Такое впечатление, что где-то после сорока (то есть после переезда в Америку) Набокова интересовали только собственные книги. Остальные переживания - в том числе возрастные - остались за бортом. За бортом парохода «Шампелен», покинувшего Францию в мае сорокового.
Здесь и остановился писательский возраст Набокова. Должно быть, повлияла и атмосфера американского кампуса с ее как-никак несколько насильственной моложавостью и стерильной бодростью.
Виртуозные, но уже привычные трюки поздних набоковских романов приводят читателя со стажем в состояние некоторой меланхолии. Только великолепный, великий дар пересмешника не тускнеет. Юмор Набокова поразителен. Его можно было бы назвать черным, но этому мешает невероятное изящество и - добродушие, что ли. А точнее, чернота приобретает здесь вовсе не свойственную этому цвету прозрачность. И уже почти неразличимые атомы иронии вошли в общий состав языка Набокова, особым образом тонировали его.
Вот этот тон по крайней мере четверть века растворяется в нашей словесности, угрожая стать просто унифицированным «хорошим тоном» эссеистики. Но пока ничего не выходит, интонация не теряет личной окраски.
Некоторых, я знаю, стиль Набокова раздражает. Их, в общем, можно понять. Его сравнения иногда слишком густо смазаны («из жирных луж в шоколадных колеях»). Его описания все же статичны, часто самодостаточны. В конце концов, может вызвать раздражение даже та ловкость и оборотистость, с которой он строит фразу. Не все любят такие фразы — щегольские, до блеска надраенные. (Женя Харитонов, например, не любил, просто не терпел. Он любил Добычина.)
Я-то как раз люблю, но сейчас пытаюсь от подобной (неловко заимствованной) ловкости избавляться. Уши, вероятно, все еще торчат. Немудрено. Довольно рано прочитав все лучшее, что написано Набоковым, я буквально задохнулся от восторга и лет десять не мог этот восторг выдохнуть.
Еще я благодарен ему за точные, вполне узнаваемые описания некоторых состояний, которые прежде казались мне личным уродством. Описание сплошной, проходящей как будто сквозь каждый атом тела судороги — «болезненного беспокойства, нестерпимого нарастания мышечного чувства, когда приходится то и дело переменять положение своих конечностей». («Память, говори»). Лихорадка трогает сухожилья, паутинка бегает по лицу.
Индивидуальной и вполне неблаговидной аномалией я полагал и какое-то расслоение восприятия, в котором обнаруживались вдруг замкнутые и не доступные контролю отсеки. Иными словами - разделение восприятия на элитарное и массовое. Какой-то фон, какой-то второй голос, который обычно не осознается, - как некоторые не слышат включенное радио. Если же внезапно переключить внимание на эту вторую программу, обнаружишь, что там или исполняют популярные песни, или (вот интересно) идет дополнительный монолог и совсем не от твоего лица. Успеваешь ухватить кусочек: «креветки, креветки… чай с картошкой… кошелка с помидорами… не хочу ложиться». Говорит это какая-то баба с помидорным лицом, отчасти она и есть кошелка с помидорами. А вот «не хочу ложиться» — это уже я.
Ложиться все-таки приходится, и чем ближе подходит сон, тем мощнее работает вторая станция, корректирует и постепенно заглушает первую. Но работает она и днем, только на каких-то ультразвуковых волнах. Неслышно твердит что-то, бесконечно прокручивает одну случайную фразу…
Набоков, правда, называет это «легкими галлюцинациями»: «Так, перед отходом ко сну, но в полном еще сознании, я часто слышу, как в смежном отделении мозга непринужденно идет какая-то странная однобокая беседа, никак не относящаяся к действительному течению моей мысли». («Другие берега»)
Все цитаты из поздних (и как раз американских) книг, но что-то подобное, даже еще более точное, встречалось и раньше. Только привычка делать выписки появилась слишком поздно.
Вот и слова «освежеванное сознание» перекочевали в мои записи из последнего романа Набокова «Смотри на арлекинов»: «Бесы неизлечимой болезни, „освежеванного сознания“, распихивали моих арлекинов». Кто хоть раз испытал сходное ощущение, оценит его точность. Понятно, что это какой-то легкий, щадящий род шизофрении. Наверняка знакомый и автору, иначе откуда бы такая узнаваемость. Возможно, всю сознательную жизнь он скользил по грани, когда жить уже ни в какую, но и в желтый дом еще не пора. Это как-то чувствуется в его вещах. Нет, неправильно, - не в самих вещах, а в том, из чего они родились. В их начальном веществе. Он что-то знал о реальности, о самой ее ткани. И умел так натягивать ее, что кое-что удавалось различить на просвет.
«Какая тоска, Цинциннат, сколько крошек в постели». Как, какими глазами нужно читать, чтобы числить его по разряду литературных шахматистов и шифровальщиков. Какой слух надо иметь, чтобы не расслышать это вечное зашептывание, заговаривание… Поиск противоядия… Беззащитная хрупкость перед сворой тупых чудовищ… «В действительности, я тихий старый господин, который ненавидит жестокость».
Вот и я с тех пор, с юности, заклинаю личную пропасть его словами. «Ах, оставьте меня в моем зацветающем парке, в моем мшистом саду. Пусть играют они вокруг меня вечно, никогда не взрослея». Кто эти «они»? Мне и самому трудно сказать с определенностью. Точно, что не нимфетки. Возможно, просто приметы жизни, сама жизнь, еще не подсохшая и не окороченная временем.
Мы сами не заметили, как перешли на его язык: «благодарю за учтивую цитату», «так-с, первая сальность», и так далее. Трудно сказать, сколько таких отложений, уже забывших о начальном авторстве, осталось в нашей лексике.
Вот, например, Иван описывает незнакомого мне человека: «Ну, представь себе Леню Глезерова, только ухуди его, прибавь ему такую (он протянул руку, показав на кафельную стену) эмалевую бледность и тот неврастенический звездный блеск в глазах, который бывает на семейных фотографиях у набоковских такс…».
Глядя, как мы с Витей щелкаем каблуками у двери туалета и приветствуем друг друга тявкающим «соболезную», посторонние подозревали, верно, какую-нибудь домашнюю шутку. Пантомимическая цитата из «Подвига» не различалась. Все первые годы общения сопровождались таким скрытым (скрытным) цитированием. Но когда мы встречались вдвоем или втроем, можно было просто открыть книжку и зачитывать целыми страницами.
Почти слышу ликующий и какой-то заоблачный голос Ивана, отчетливо произносящий слова из «Других берегов»: «Там, за стеклом, на секунду являлась, в лежачем положении, торжественно и удобно раскинувшись на воздухе, крупная фигура моего отца; его белый костюм слегка зыблился, прекрасное невозмутимое лицо было обращено к небу. Дважды, трижды он возносился, под уханье и ура незримых качальщиков, и третий взлет был выше второго, и вот в последний раз вижу его покоящимся навзничь, и как бы навек, на кубовом фоне знойного полдня…». Голос звенит и плавится, как будто он читает о своем умершем, погибшем отце. Но нет, он читает о том отце, которого у него никогда не было. Настоящий его отец жив, и Иван его отчетливо не любит. По крайней мере так мне тогда казалось.
Иван сказал про «Лолиту»: «Эта книга написана на пределе отчаяния». Я возмутился: «Как можно отчаиваться, написав такую книгу? Как вообще можно писать от отчаяния?».
Иван усмехнулся.
Я услышал о нем в тот, как говорится, знаменательный день, с которого началось какое-то другое направление моей жизни. Другие - не архитектурные - знакомства и связи, в сущности, другая жизненная программа.
В Ферапонтовом монастыре мы писали свои акварели. Темноволосый молодой человек с редкой бородкой маячил за нашими спинами, поглядывал на работы, кое с кем заговаривал. Я уже знал, что это Володя Казьмин - в просторечии Казик - тоже из архитектурного, но со старшего курса. Он посмотрел на меня издали, очень пристально, внимательно и как будто перебросил свой взгляд поверх голов на противоположную сторону площадки. (Кажется, в том же году в Доме художника на Кузнецком Мосту проходила выставка кубинских достижений. Самым привлекательным достижением был пожилой негр, скручивающий сигары на специальном станке. Готовые изделия негр раздавал желающим. Желающих было предостаточно, они протискивались в первый ряд - ближе к раздаче, - оттирая друг друга плечами. Я стоял среди наблюдателей, ряду в четвертом, и не сразу понял, что именно мне протянута поверх голов очередная готовая сигара. А негр смотрел на меня тогда так же, как теперь Володя, - избирательно.)
- Я сейчас иду в соседнюю деревню, - сказал подошедший Казик, - там живет моя приятельница. Не хочешь составить мне компанию?
По дороге он расспрашивал, чем я занимаюсь (увлекаюсь). «Ага, стихи, так я и подумал. У Наташи, к которой мы идем, отец известный поэт, Яшин фамилия, слышал?». Слышал. Когда мы пришли, я утвердительно спросил у новой знакомой: «Ваш отец поэт?». Она темно усмехнулась: «Мой отец крестьянин».
Наш частный разговор не складывался, и скоро они заговорили о своем, про общих знакомых. О каком-то Иване, который пробует писать, хочет стать прозаиком. «А что, очень может быть, - сказал Казик. - Человек он интересный».
Это знакомство (и все, что за ним последовало) едва не сорвалось: как только мы вышли из монастыря, я понял, что идти в ту деревню придется по скошенному полю, по стерне. Я был босиком и уже собирался отказаться. Почему-то раздумал. Казик потом рассказывал: «Я только на середине пути заметил, что ты босиком, и ужаснулся: как же ты идешь? Ты ответил, сильно заикаясь: „Да, мне б-б-больно“, — и продолжил разговор».
Мама вошла в комнату о чем-то спросить. Иван, впервые зашедший в гости, сидел на корточках, упершись лопатками в ребра батареи. «У меня прямо оборвалось что-то внутри, - объясняла она потом. - Вхожу, а в углу сидит такой… ну, Алеша Карамазов».
Впечатление наверняка шло от глаз — от их «опрокинутого» выражения. Глаза серые, в общем, небольшие. Но иногда взгляд шел сквозь тебя, явно не замечая преграды, и тогда глаза казались огромными. В первую встречу я смотрел на него издалека и без очков, даже не рассмотрел хорошенько, но подумал почему-то: «Щеголь, маленький щеголь». Совершенно непонятно, откуда это пришло - точно, что не от одежды. Потом сразу стерлось, забылось. А все-таки было верным. Даром, что ли, он Константина Леонтьева любил. Маленький щеголь, Ванюша. Ему бы в лаковых сапожках расхаживать, а не в тех, солдатских.
А вообще-то все нормальные - то есть живые - люди внешне вполне забавны, иногда нелепы. Шмыгают носом, шевелят губами. Волос вихром. (Мысль в духе Честертона.)
— Ты еще прочтешь у Валери про этого интересного господина Тэста, - говорил мне Иван. - Конечно, он утверждает, что писать ничего не надо, да и читать, кажется, не надо.
— А что надо?
— А надо все помнить. Причем не только «на сегодня», но и «на завтра». То есть надо помнить вперед: отбирать и запоминать то, что сегодня кажется ненужным, но когда-нибудь потом окажется самым важным. А я, кстати, даже не помню, как мы с тобой познакомились. Где это было, в институте?
— Нет, в институте я тебя в первый раз увидел, издали. А потом, уже в другой день, я стоял в читальном зале, сдавал книги. Подошел Казик, мы пошли вместе. Уже на улице он небрежно и как бы невзначай спросил: не хочу ли я зайти с ним к одному интересному человеку? Слово «интересному» он так растянул, немного иронически, как будто не ручается за это определение. Не берет ответственности. «Художник-абстракционист, - пояснил он. - Тарон - это имя, а не фамилия. Сложный человек, но тебе, думаю, будет полезно с ним столкнуться… сразиться».
Когда мы поднялись на последний этаж, он просто толкнул дверь, и она открылась. Я удивился: «Так это еще не его квартира?». Казик усмехнулся, довольный: «Богема в отдельных квартирах не живет-с». В его дверь он уже постучал. «Входите!» - ответили очень громко, как будто хозяин стоял прямо за дверью. На самом деле он сидел у окна, в самом конце неправдоподобно узкой, в ширину коридора, комнаты. Большую ее часть занимал дощатый топчан, на нем этот человек и сидел по-турецки, очень прямо. От темной (на фоне окна) фигуры шло грозное напряжение. Не сразу различилось лицо, красивое и мрачное, явно восточное. Я видел, что он смотрит на Казика в упор, нахмурившись. «А-а, - зловеще протянул он, и это »а-а« перешло в »э-э«. — Это ты, Каз„. И тут же, без всякого предупреждения пошел такой ругательский разнос, что бедный Казик (вроде бы уже победно сразившийся с этим сложным человеком) не мог и слова вставить. Все получалось совсем не так, как он предполагал. “Я таких, как ты, не люблю, - художник не выстреливал словами, а метал их, как копья. - Я люблю так: приходит человек и прямо говорит: вот мое голубое, а вот мое красное. Вот Андросов решил у меня учиться живописи. Так я теперь его сюда не пущу, мы будем здесь водку пить, а он будет там, за дверью, потому что он - ученик„. Постепенно выяснялся смысл разноса: Казик купил у художника книгу, не то икону, а это неправильно, следовало просто дать деньги, ничего не беря взамен. Но напор, я думаю, был спровоцирован тем, что появился зритель. Зритель, учти, совершенно анонимный, Казик не успел нас познакомить, и все это время он как бы не обращал на меня внимания.
- А я там появился в какой-то следующий раз?
- В тот же, но позже. Ты был с Ниной.
- А как вела себя Нина, как она тебе показалась?
- Ты понимаешь, я-то считал, что там все свои люди и знакомы сто лет. И меня, помню, удивило, что держится она скованно, даже напряженно, хотя вся обстановка ей скорее нравится. Или она очень хочет, чтобы понравилась, и старается расположиться к тому, что видит.
- Да-да, очень похоже.
- А ты только что приехал из Печор, не переодевшись и в тяжелых яловых сапогах. Эти сапоги просто заслонили тебя, потому что ты все время шагал из угла в угол, как маятник, но как-то не очень естественно. То есть ты делал каждый шаг, как будто они были тебе велики, эти сапоги.
- И это был я, несмотря на всю чувствительность!
— Пока ты так вышагивал, Тарон внушал тебе, как разговаривать с родителями: «…ты приехал жениться», — и так далее. Он и тебе рассказал про ученичество Андросова, но ты уже знал об этом от самого «ученика». Тарон спросил, что тот говорит. Вот тут ты и удивил меня в первый раз. Чем? Не знаю, неуступчивостью, что ли. Ну, казалось бы, почему не доставить человеку удовольствие, если все для этого готово и ничего решительно от тебя не требуется. Так нет. Ты ответил нехотя и очень сухо: «Говорит, что очень полезно». Тарон недовольно кивнул.
Не помню, откуда появилась водка. Мне налили полный до краев стакан, и его следовало выпить сразу, до дна. Этого никто не говорил, но я чувствовал: первый экзамен. Никогда раньше я полный стакан в себя не вливал, да и потом что-то не припомню. Но тут выпил, с таким, знаешь, выдохом - пан или пропал. Закуска меня тогда поразила: вынули откуда-то сырую сосиску - одну! - и разрезали ее на несколько частей. Я вообще не знал, что сосиски можно есть сырыми.
— Да, я помню твои рассказы о «субботах», где после разносолов еще выносят баранью ногу. Я всегда возмущался: разве может с такой закуской получиться хоть какой-то путный разговор?
- Потом я стал тихо, но быстро пьянеть. Чувствовал, как опьянение поднимается откуда-то снизу, но не мог ничего сделать. Как вода в наводнение. Тарон сказал: «Ну, ты меня как-то узнал, теперь Я хочу познакомиться с тобой. Ты молчишь, это хорошо. Но нужно же мне знать, с кем я имею дело. Вот рисунки, разбери их на три кучи: что понравилось (если что-то понравится), что не понравилось и что оставило равнодушным». Папка была огромная, рисунков тьма, а голова уже не моя и руки тоже. Но ошибиться было нельзя, от этого зависело ВСЁ. Я разложил. Он сказал: «Ну, ясно. Ладно, приходи».
- А когда ты читал свои стихи? В тот же раз?
- В следующий. Это же были стихи про него - «коршун, пасынок, юродство». Я хотел сделать еще рисунок и включить в него стихи, - так делал какой-то человек с молодежной выставки, а потом Константинов. Но до рисунка руки не дошли, и слава Богу. Тарон сказал: «Да, все это во мне есть, и коршун, и юродство… Про пасынка только не знаю».
А тебе стихи, я помню, не понравились. Ты и тут не уступил.
«Я имею право вас учить, - говорил Тарон, - потому что я всю жизнь сплю на жестком».
«Не говори о живописи пренебрежительно, - учил он, - тогда мазки станут легче и прекрасней». И еще учил: «Боярыня Морозова» — она красная, только написана синим"… «Если они красоте предпочитают насилие, я должен писать насилие»… «Здесь я взял кусочек мастерства у Эль Греко, как он пишет белые ткани. Мастерства в том убогом смысле, в котором его понимают».
Или еще: «Не „какой-то“ Ван Гог, а Его Величество Ван Гог. Ван Гог заслужил свою смерть. Он выстрелил себе в грудь, а потом спокойно разговаривал с братом. Умирающий на снегу должен просить прощения у идущих дальше».
И еще: «Творчество — это ловушка, оно не дает опоры. Ты должен идти по канату, но не за мной. Кафка в жизни был вполне корректным человеком».
«Я должен был преподать тебе урок доблести, а дал урок страдания».
Иван о Тароне: «Все, что он говорил, казалось таким ясным и своим, и мысли не возникало, что это может когда-то забыться. А вот забылось. Просто никогда не веришь, что сам можешь измениться».
- Ну что, Иван, - говорит Тарон, - когда помирать будешь?
— Что значит «когда»? Когда Бог пошлет.
- Да? Правда? - обрадовался Тарон. - Я тоже теперь так думаю: когда Бог пошлет. А то ты, помню, мне всю плешь проел этими вопросами.
- А чем ты сейчас занимаешься?
- В последнее время - подделкой. То есть я вроде как поддельщик. Обнаружились у меня вдруг способности к таким вещам, как, например, - сделать шкатулку. Почему-то это никто сейчас не может сделать. А почему - неизвестно. А я вот могу.
Иван вдруг обернулся и, показав на буфет, очень резко спросил: «Это какое дерево?». Тарон послушно полез в карман, вынул очки. Вот так новости! Готовность подчиниться и отвечать на неудобный вопрос была еще более неожиданна, чем появление очков. В очках он уже совершенно на себя не походил: какой-то действительно ремесленник. Долго, безнадежно разглядывал дерево. «Я думаю, дуб». «Это орех», — отрезал Иван.
А после его ухода долго возмущался: «Тоже мне поддельщик, дуб от ореха отличить не может. »Я — поддельщик!«
В отличие от Тарона, он (Иван) не навязывал другому свои условия. Он просто никогда не соглашался на чужие. Это несогласие выражалось ясно и без промедлений, но у тебя хотя бы оставалось право отказаться или уклониться. Не помню, правда, чтобы я спешил этим правом воспользоваться. Меня восхищала чудесная маневренность его мысли, ее неожиданная ловкость — безупречный интеллектуальный инстинкт.
Декорации для первой нашей совместной выпивки выбирал тоже Иван. Был, правда, и третий участник, Володя Тихонов, но тот распоряжался закуской: «Я предлагаю сырые яйца. Савва Морозов закусывал только сырыми яйцами». Ладно, принято. Купили сырые яйца по числу участников, каждый опустил свое в карман верхней одежды. На мне было кожаное полупальто, переделанное из отцовского - довоенного, длинного, с широкими обшлагами. (Такой кожаный мешок на молнии, очень неудобный для ходьбы, тем более для преодоления препятствий.) Вместо простой водки взяли почему-то «Старку», для изысканности. Отправились от института налево к Рождественскому монастырю, не доходя свернули в подъезд доходного дома, на черную лестницу. Дальше был чердак с развешенным бельем и узкое слуховое оконце, через которое надо было пролезать на крышу. До этого пункта все шло вполне празднично, но тут случился конфуз. Окно находилось довольно высоко от мягкого земляного пола, нужно было подтянуться и, упершись животом в нижний брус оконной коробки, переползти на скат крыши. Я подтянулся, уперся и… Как сейчас помню легкий, но ужасный, окончательный треск хрупкой закуски в левом кармане кожанки.
Удовольствие было испорчено. Я очищал карман и стряхивал с пальцев липкую гадость под взглядами: сочувственным - Ивана, брезгливым - Володи. Поделиться закуской было сложно, да я и не просил. Вид с крыши действительно открывался красивый, но вкус «Старки» я не выносил еще лет двадцать после этого случая, да и вообще не терпел цветную водку. Потом прошло.
Немного об одежде, если уж зашла речь. Печальная судьба дивного кожаного пальто вполне типична. Одежда шестидесятых годов соответствовала своему полувменяемому времени. Ей не хватало духа быть откровенно прежней, немодной (но стилистически индивидуальной), а стать модной у нее не было никаких шансов. Одежда была никакой, но «с претензией на что-то». Какие-то всё погончики да необязательные карманчики. На этом фоне Иван с его неизвестно как сохранившимися нэпманскими картузами и парусиновыми кителями «со стоечкой», конечно, очень выделялся.
Милиционеры и все, им подобные, считали, что он выделяется не в лучшую сторону. Странный человек сразу привлекал к себе самое пристальное их внимание. Но бывало и наоборот. Историю в метро я знаю только в пересказе, но легко могу представить оторопь постового, которого Иван треснул кулаком по небдительной спине. Так - ни с того, ни с сего, для начала общения. Поступок был настолько непонятный, что на нарушителя не стали заводить дело. Но общение, конечно, последовало.
Милиция всегда была так близко, непонятно даже, как все обошлось без серьезных неприятностей. Стоим однажды в винной очереди, с тоской разглядываем полки. Стоящий впереди нас пьяный человек в болонье и расстегнутой до пупа ковбойке вдруг оборачивается и что-то мычит. Иван понял, достал пятерку. «Сдачи не будет», - буркнул наш багроволицый продавец и вытащил из авоськи бутылку. Мы повернули к выходу. И тут какая-то толкавшаяся рядом ребятня плотно взяла нас за локти. Уйти было невозможно: оттолкнув одного, ты втыкался в другого. Они восставали, как пораженные мишени в тире, и рычали свое: «Р-рейд! Др-ружина!». Весь магазин, казалось, состоял из них - длинных и рукастых, чем-то очень похожих на того, кто продал нам водку.
…Незакрашенный контур давно снятого бачка. Отпечаток снесенного дома на брандмауэре соседа — лоскутная внутренняя покраска, оказавшаяся на виду, как будто дом не снесен, а вдавлен в стену взрывной волной. Завещательная проза мелом на кирпичной стенке: «я тоже». Фраза, показавшаяся мне сутью моего мировоззрения, уместилась на одном кирпиче.
Излюбленными местами Ивана были заброшенные и назначенные на слом дома. Или дворики около таких домов. Или на худой конец странные предприятия, которые сторожили по ночам его товарищи.
Иногда довольно неожиданные. То есть неожиданными оказывались то его приятели, то охраняемые ими объекты. То сразу - и приятели, и объекты. Я помню огромный мрачный коридор, где по стенам висели мемориальные доски, и одна из них удостоверяла, что именно здесь работал академик Збарский. Значит, не врал наш друг-сторож, и мы действительно находились в секретном институте, в спецлаборатории, чьи усилия только и поддерживают в относительном порядке набальзамированное тело вождя. И не одного вождя, а нескольких, утверждал наш друг. «Они от нас зависят целиком и полностью, они у нас вот где», - и он со значительным выражением показывал кулак. Его патриотизм - по крайней мере в отношении вверенного на ночь учреждения - казался искренним. И это было немного странно, потому что нашему хозяину только недавно разрешили вернуться в Москву, он вообще-то был из «группы Огурцова». Гордость успехами жутковатого института и недавнее антисоветское прошлое - это как-то не связывалось.
Мы долго выбирали подходящую лабораторию. Удивительные это были помещения: какая-то смесь прозекторской и школьного химического кабинета. Очень грязные окна, тяжелые столы, вдоль стен пробирки, клистирные трубки. Грязные раковины, таких уже и не встретишь. Пили, конечно, из пробирок. Сторож принес спирт, довольно подозрительный. Я покосился, он меня успокоил: «То, что в нем плавало, я выбросил».
- Расскажи про деревню, - попросил Иван, - ты хорошо рассказываешь.
Рассказывал сторож не очень хорошо. Я бы сказал, ужасно. Он и внешне напоминал перенакачанный мяч, и говорил, как этот мяч, толчками. Задушенный голос без конца перебивался непонятным смешком, или ритуальным покашливанием, или междометиями, которыми он словно понукал самого себя.
— Расскажи про блаженного Августина.
Тот согласился.
История о блаженном Августине
Наш сторож жил тогда в деревне и работал лесником. Подружился он с неким Августином и дал ему почитать Библию. Августин долго не отдавал книгу, читал. Потом заперся и день-два что-то писал. Была осень. Рядом с домом, где заперся Августин, мальчик удил в речке рыбу. Августин взял охотничье ружье и первый заряд выпустил в мальчишку. По счастью, не попал. Тогда Августин выбежал из дома и с криком «Щас буду делать мясо!» побежал по деревне. Деревня попряталась по огородам. Августин влетел в избу к мужику с перебитыми ногами. (Тот в детстве подорвался на мине, но говорил, что всю войну прошел.) Мужик был уже под кроватью. Никого не увидев, Августин прицелился и выпустил второй заряд в икону, прямо Спасу в переносицу. Тут и набросились. Августина связали и вскоре отправили в сумасшедший дом. Деревня решила: потому рехнулся Августин, что лесник давал ему есть желтые плоды, которые привозил из города.
Желтые плоды — это апельсины.
- Да-а, - сказал Иван, - все еще густо живет провинция. Был недавно в Кашине, видел плакат, на нем коровья морда и надпись: «Удвой удой, утрой удой, не то пойдешь ты на убой». Какие-то францисканские идеи.
Еще одна история, рассказанная сторожем
…И вот привязался на улице к этому христианину такой крепыш в нейлоновой куртке. Как потом выяснилось, стукач. Но не простой - артист своего дела и любит его по-настоящему. Лебедев своего рода. Слово за слово, и пошел у них скоро довольно интимный разговор. «Вы христианин? - спрашивает крепыш. - Христианин, - отвечает христианин, он ведь христианин. - И что? И куда едете? И к кому? А можно я вас до вокзала провожу?» Проводил и посадил на поезд. Вот поезд трогается, а крепыш вдруг обнял христианина, притянул так по-братски и шепчет: «Что же ты дрожишь, дурачок?».
- Пашу очень шокировал отец Алипий, - рассказывал Иван, - как он затворяется, а когда отходит, - стреляет с балкона в ворон из стартового пистолета. Или, высунувшись из окна, разговаривает с толпой старушек-просительниц: «Сохнут, сохнут еще, сохнут». В смысле — деньги только что напечатал, и они еще сохнут. А Пашу он спросил: «Какое из художеств по чину первое?». Тот смутился и не смог ответить. Но ему все равно дали рекомендательное письмо в Уфу к владыке, который тоже кончал архитектурный институт. Паша был счастлив, но потом ему сказали: «Только нужно сговориться с уполномоченным». А тот сразу завел разговор об уфимской прописке и о том, что «ездют разные, владыку беспокоют»… А в Вербное воскресенье Алипий угощал нас, не понимая чем, что кухарка поставит. «Коньяк! Двадцать пять рублей! - и с задержкой перед моей рюмкой: - Будешь? Ну?» — «Если благословите, святой отец». — «Да? Так?» — и наливал.
…Когда как следует начитаешься этих святых книг, начинает казаться, что и ты святой. Тогда я и начинаю пить — чтобы войти в контакт с самим собой…
…Есть в монастыре один старообрядец, старик-иконовед. Говорит: «иконки», «лики». Рубит дрова и возит их на детских саночках, старается протаскать подольше, увеличить путь. Нет, все-таки я живу среди каких-то ватных чучел. Все наоборот: теперешний отшельник - это человек, который все приемлет. Мотылек. Асаркан - вот он-то и есть аскет… Ах, как я тоскую по блестящим людям! Есть что-то в дендизме. Денди не человек, проводящий пятнадцать часов перед зеркалом для получасового раута, а тот титулованный немец, что расставлял слуг с кисточками разной длины - а на кисточках пудра разного цвета и запаха - и проходил быстрым шагом через весь ряд.
…Отношение к Богу, как к газете «Правда». Читаешь: «наступление патриотических сил». Ну да, знаем мы это наступление! «Паника в Сайгоне» — ну да, там уже пять лет такая паника. «Бойцы народного фронта на подступах к столице» — какие там еще подступы! И вдруг: «Сайгон пал». Это что же — выходит, все правда? Да нет, нет же. Просто правды нет никакой.
Мы виделись не ежедневно, может быть, не так уж часто, но этот разговор — он шел постоянно, непрерывно. Менялись только декорации. Вокзальный буфет, где торгуют пивом и особыми ночными сардельками. Милиционеры у стойки и их потенциальные клиенты с дальних столиков удивленно смотрят на двух молодых людей, оживленных не к месту и не по времени. Световое табло в конце зала показывает 2.45. Почти слышно, как гудят неоновые лампы разноцветных указателей.
- И все-таки у Олеши это не могут быть только фразы, записанные на клочках: там начисто отсутствует неряшливость.
- Вот именно. Фраза обкатывается, когда некоторое время нет возможности ее записать. Но при этом она замыкается в себе.
- Это верно, но ты исходишь из своего опыта, а я из своего. У алкоголика не может быть ясности на долгий период, но есть навязчивый, повторяющийся ритм, то есть интонация, в которую закладываются все равно какие, даже случайные слова. Это я и называю неряшливостью.
- А вот каламбуры всегда сами по себе и все разрушают. Выдь на Волгу - Чейн-Стокс раздается?
- Здорово. А мне сегодня в полусне пришло такое: как интересно мы устроены, у нас есть верхние веки, нижние веки, но есть и средневековье. Но это звучит только в потоке, вместе с концепцией «Войны и мира», а ее я сейчас не могу пересказать в силу событийных условий. Там есть определение Наташи Ростовой, в которое «все втекает». Короче, мы читаем не то, что он писал, а когда перечитываем, знаем, что мы перечитываем. И никуда от этого не денешься… Есть у Толстого Льва Николаевича Толстого  хрестоматийный кусок про наступление весны: на три дня все покрыл туман, и что-то там происходило, передвигалось, менялось… Вот и со мной так. Что-то происходит, - я не знаю что. Надо мной кружит беда. Бывает так, ночью, на даче особенно: где-то со звоном разобьется стекло, и потом уже невозможно заснуть… Одно дело, когда ты знаешь, что несчастье суть жизни, и другое - когда вот, уже, это происходит с тобой. И когда мы шли там по Швивой горке, и я слова не мог сказать от такой тоски, что ребра потрескивали, - это и была жизнь. Теперь я разговорился, и все ушло, исчезло. Там я тянул сеть, как рыбак, задыхаясь от тяжести улова, и вот она снова пуста. Только там чувствуешь тяжесть и полноту жизни, но писать невозможно, а когда возможно - о чем писать? Как раз наполненность собой и невозможно вынести. А при отношении к жизни, как к чужому, возможен эксперимент. Кто там делал себе прививку? хрестоматийный кусок про наступление весны: на три дня все покрыл туман, и что-то там происходило, передвигалось, менялось… Вот и со мной так. Что-то происходит, - я не знаю что. Надо мной кружит беда. Бывает так, ночью, на даче особенно: где-то со звоном разобьется стекло, и потом уже невозможно заснуть… Одно дело, когда ты знаешь, что несчастье суть жизни, и другое - когда вот, уже, это происходит с тобой. И когда мы шли там по Швивой горке, и я слова не мог сказать от такой тоски, что ребра потрескивали, - это и была жизнь. Теперь я разговорился, и все ушло, исчезло. Там я тянул сеть, как рыбак, задыхаясь от тяжести улова, и вот она снова пуста. Только там чувствуешь тяжесть и полноту жизни, но писать невозможно, а когда возможно - о чем писать? Как раз наполненность собой и невозможно вынести. А при отношении к жизни, как к чужому, возможен эксперимент. Кто там делал себе прививку?
…Я не считаю, что водка - это болезнь. Это не то, с чем я хотел бы расстаться. Это часть меня, это не струпья. Водку мне заменить нечем, по крайней мере сейчас. Только она дает мне некоторые пороговые состояния, приближающие к тому, что можно назвать «реальностью». Реальностью по Сартру - «тоска, тошнота»… Доктор спросил меня: «Но ведь вы хотите что-то понять, как же вы сами разрушаете свой единственный инструмент - свой интеллект?». Да, так. Да, это эксперимент с открытым финалом. Или - или. …Понимаешь, жизнь как чужая лодка. Лодка плывет, но не ты в ней хозяин. Перевернется - ну, что ж, хозяин не ты.
- Вы новый Ванин товарищ? - спросила его мать при знакомстве. - У Ивана много товарищей, но хороших людей среди них мало.
Низенькая седоватая женщина смотрела на меня строго и подозрительно. Только что был телефонный разговор с отцом: «Да, приехал. Ничего, все в порядке. Он женится. Что „ерунда“? Женится, я тебе говорю».
Изредка она мне звонила, спрашивала, не у меня ли Иван. Или так: «Это у вас он был вчера? Что же у вас там происходит? Он даже раздеться не смог». Я пытался объяснить, что ничего бы не изменил, отказавшись, но как это скажешь, какими словами? «Ваш сын все равно пил бы, только в случайной компании или один». Так, что ли? Прошло много лет, прежде чем мы понравились друг другу. Впрочем, нет: мне-то она нравилась с самого начала, несмотря на строгость и хмурую прямоту. (Может, поэтому и нравилась.)
Но настоящая паника начиналась, когда он, совершенно пьяный, куда-то исчезал, убегал. С каждым годом все чаще и все изобретательнее. Однажды хватились: где Иван? Нет Ивана. Никакого Ивана Ивановича. Дверь по техническим причинам открыть не мог. Оказалось, выпал с балкона, не нарушая мирного течения праздника. Это был второй этаж, но мог быть и двенадцатый, если бы пошли в другую квартиру. Морозов тогда сказал: «Я должен учиться у Вани великой скромности поведения».
О причинах побегов можно было только догадываться. Что-то выяснялось потом, что-то он рассказывал сам.
- Страх - это нормальная составляющая жизни, - сказал Казик и низко, как кошка, склонился над чаем, который он пил из блюдечка. Иван вдруг накинулся на него: «Ну, что ты говоришь? Ну, сам подумай, что ты сейчас сказал?» - «А что особенного?» - «Вот именно - «что особенного?». Вот так те Ивановы, ленинградцы, полвечера говорили о детях. Это было настолько невыносимо, что я соскочил со своего подоконника и сказал что-то вроде: «Когда христианам не о чем говорить, они почему-то говорят не о погоде, а о детях». И убежал, конечно.
Способность убегать развивалась с годами, принимала разные формы. Например, домашнее музицирование. Главное - убежать от разговора, не обязательно на улицу. Можно вытащить самодельную дудку или просто уснуть.
…Уж не знаю, зачем я его разбудил. Неприятно скалясь, втянув голову, подгибая ногу, он выполз в коридор: «В уборенку хочу, в уборенку хочу». Пошел в уборенку.
На кухне весь стол заставлен грязной посудой. Иван пришел и начал без толку все переставлять, стукая предметы друг об друга. Витя уронил коробок, Иван царапнул в такт, и понеслось. Витя вытащил свою знаменитую дудку и заиграл. Иван изображал ударника. На дворе уже ночь, а они играют так громко. «Не надо так громко!» Витя вышел из «квадрата» и вытер губы: «Вот ты шикал, а напрасно. Ты о соседях, что ли, думаешь?». И как бы случайно дуднул еще разок. Иван поддержал его ножиком по чашке. Чашка с каждым ударом подвигалась все ближе к краю стола, и я внимательно следил за ее перемещением. Ритм-группа принялась за собственные колени, потом лапой об стол, потом кулаком по лавке. Гром страшный, но чашку я незаметно прибрал. Ладно, буду помалкивать.
Они погружались в свой ритм, а он явно уводил их из моего мира. Чем однообразней и назойливее гремели ложки-вилки, тем хуже, грубее становились лица, с каждым ударом теряли еще часть выражения. Оп-оп-опа-оп. И снова: оп-оп-опа-оп.
Вдруг что-то произошло со мной. Как будто из ушей выпала вата, и дикая какофония захлестала по живому. Я заткнул уши: «Перестаньте, я больше не могу!».
Недоуменная пауза. «Ну, зачем ты так? Кто же виноват, что такой разворот приняло веселье». Витя подошел и долго в упор меня рассматривал. Я не поднимал глаза. «Упаси Бог, Миша! - начал он, и долю секунды мне казалось, что он хочет извиниться. - Как ты рявкнул на всех! Упаси тебя Бог, - ты рявкнул, как свинья». И повторил еще раз: «Как свинья».
…Я спал, придавленный собственной тяжестью, и проснулся от своих же стонов. Рислинг, оказывается, не допили. Не свет, а тоже какой-то воздушный рислинг сочился в щели между плотными шторами. Крайняя была отдернута, и в световом облаке маленький попугай кувыркался вокруг розовой погремушки. Он бился о погремушку зеленой грудью, та раскачивалась и гремела.
Меня поразил человек, зашедший вчера с приятелем «на часок». Обсуждалась, помню, смешная фамилия этого приятеля: не то Хохот, не то Гопак. Оба были топорно оживлены и еще долго датировали какие-то распри своей учрежденческой курилки.
Теперь он сидел в углу, бледный, обросший, зябнущий. Кутался в пальто. Пальто безнаказанно грызла собака. «Куси его, куси! - науськивал собаку Витя. - За яйца его, Норочка, сегодня он их все равно лишится. Норочка! Тетерев! Паф-паф!» Витя вскакивает, изображая охотника. Спаниель бешено лает. Зеленый попугай срывается с подлокотника и мечется по комнате. Общая суматоха, хохот и гопак.
А еще был вечер, когда я отлучился-то всего на час-полтора, вернулся бегом, и как екало в груди от ожидания чудного праздника с патефоном и кучей старых пластинок, - боже, Лещенко под водку! А пластинки уже были на полу в мелких осколках (чужие, на один вечер одолженные), и Иван, шатаясь, ходил по ним с невозможной улыбочкой. А Витя? Витя сидел в углу, неподвижный и совершенно невозмутимый. А родители Ивана? Родителей, видимо, в тот раз не было.
Я все-таки старался их избегать и обычно не звонил, - кричал в форточку (они жили на первом этаже). Штора отодвигалась, появлялось лицо Ивана. Он махал рукой: заходи! Или делал остерегающий знак: сейчас выйду. Если «заходи», то я сразу проскакивал в его комнату, как в жилое помещение какого-то музея, где резной шкаф и часы с боем, зеленый колпак старой лампы, зеленое сукно письменного стола, сундук, гравюры. В другие комнаты я почти не заглядывал, но по аналогии считал их такими же обжитыми, старомосковскими. Родовое гнездо.
- В том-то и дело, что эта квартира обманывает, она вовсе не старомосковская, - объяснял Иван. - До моих шестнадцати лет родители жили по экспедициям, потом в малогабаритке, а там вообще ничего невозможно. Шкаф? Я сам его купил на Преображенке. Что еще? Пианино привезли с другой квартиры и еще трахнули при перевозке, боялись, что не выживет. А эту копию отец купил в Керчи у дипломника, причем и отец и дипломник очень горды тем, что это единственный пейзаж Айвазовского, где море спокойно. Подлинник, кстати, в одну четверть этого полотна. И когда я бывал в гостях, именно обилие всяких ненужных или использованных вещей казалось мне признаком налаженного быта.
Его комнату я мог рассматривать часами. Экспозиция каждый раз немного менялась, и это было странно. В тот раз поменялась даже обстановка, из старой сохранился только шкаф - мощный, с хитрой резьбой начала века. Вместо большого письменного стола маленький, женский, на гнутых ножках, но тоже с зеленым сукном. По углам подсвечники. На столе лилии в необычной бутылке, раковина в форме челюсти, два шарика, прозрачный и матовый. Если приглядеться, таких натюрмортов довольно много. Буддийский свиток на стене, рядом безрукий деревянный ангелок, опоясанный шпагой. Шпага настоящая, старинная. На двери домовой номер с обожженным тузом и сухими листьями. Вместо рабочего стола - занимающая полкомнаты крышка рояля. Она завалена бумагами, и все приходится ставить на пол: чайник, чашки, рюмки. А спит хозяин на сундуке, приставляя к нему стул. Но сейчас он не спит, и я сижу рядом, не могу уйти. Я боюсь оставить его одного.
- Это стена огня. Понимаешь, - между человеком и человеком стена огня.
— Через которую я все время посылаю лазутчиков. Но все же умные люди, все же заранее знают, что дело не выгорит.
— «Все, что вы ни говорите, сердце трогает мое». Это из другого «Недоросля». Все, что вы НЕ говорите… Прототипом Стародума был отец Фонвизина. Фонвизин вспоминает, что, когда его отняли от кормилицы - а было ему уже года три-четыре, - отец спросил его: «Что, дружок, тяжко?» — «Ох, батюшка, так тяжко, что, кажется, и себя и тебя бы сейчас в землю вогнал». И тебя и себя вогнал бы… Я на все смотрю с другой стороны, со стороны смерти, что ли… Да, почему бы не сказать так? Со стороны смерти.
…Тебе сегодня звонила Лена? Нет? Понимаешь, между ее звонком и твоим я успел только закурить сигарету. Поневоле кажется, что вы сговорились. Тебе хотят показать, что с тобой случилось несчастье… Ну вот, я становлюсь похожим на Тарона с его темой предательства. Посмотри, какой у меня язык, от вина, что ли?
Он высунул язык - почти черный, как мостовую лизал. Веки припухшие, и от этого странность в лице, как у человека, искусанного пчелами. Зрачки превратились в темные точки и тут же скрылись, не увидев чего-то или испугавшись своей требовательности.
- А у нас сегодня кошка родила вчера котят. Двоих котят, почему-то в ванной. Я проходил по коридору и вдруг услышал дикий, человеческий крик… Заглянул и увидел все это. И тогда я просто взвизгнул, набрал номер Матросской Тишины и сказал оппоненту, что она настоящая маленькая Иуда… Ты заметил, кстати, что только Иуда в иконографии изображался в профиль? А сейчас, похоже, только он один в фас… Тут все шло одно к одному. Вчера же узнал, что Мошкин умер. Прыгнул и разбился. Непонятно только, где он в этом монастыре нашел нужную высоту. Я ведь по себе знаю, что со второго этажа прыгать бесполезно. Или он прыгал головой вниз?
Помнишь, как Тарон говорил: ты пойми мою душу. Ты пойми: бывает, что выпадет хорошая, выносимая душа… судьба. Это же не для всех так. Но подумай о трезвиловке, о сырых простынях, об этой беленой комнате… Как же я могу уважать себя после этого? Как я могу допустить какую-то симпатию ко мне с чьей-то стороны?
…Когда мне было три года, я тонул. Потом я забыл об этом и вспомнил только года в двадцать два, когда впервые началась бессонница, и потом я загремел в больницу. Мы купались с братом. Тогда вместо спасательных кругов были просто шины… с таким еще, знаешь, железным соском, который всегда царапает кожу. Брат посадил меня в этот круг, оттолкнул, а сам чем-то отвлекся, занялся фотографированием  . Постепенно волна отнесла меня на более глубокое место, и я просто выскользнул из этой шины, опустился на дно. И тут, - мне никто не мог этого рассказывать, я спрашивал у мамы, она об этом даже не знает, брат ей не говорил, - и тут такое четкое воспоминание: я вижу чистое песчаное дно с такими полосками, как на нёбе, если провести языком, и на этом песке я вижу лежащего младенца, розового, чистого, в совершенно младенческой позе, то есть скрюченного, с поджатыми ногами, а рядом шевелится пучок водорослей, и все это через ячеистую сетку света, через расходящиеся, играющие солнечные пятна. И я медленно поднимаюсь над всем этим. Поднимаюсь над этим младенцем и вижу его, удаляющегося. И все. И нет страха. Это не страшно. Такое облегчение, что это не страшно. Смерть - это не страшно, это не тупик. Я всегда ужасно боялся смерти. Вернее - последнего мгновения, последней судороги жизни. . Постепенно волна отнесла меня на более глубокое место, и я просто выскользнул из этой шины, опустился на дно. И тут, - мне никто не мог этого рассказывать, я спрашивал у мамы, она об этом даже не знает, брат ей не говорил, - и тут такое четкое воспоминание: я вижу чистое песчаное дно с такими полосками, как на нёбе, если провести языком, и на этом песке я вижу лежащего младенца, розового, чистого, в совершенно младенческой позе, то есть скрюченного, с поджатыми ногами, а рядом шевелится пучок водорослей, и все это через ячеистую сетку света, через расходящиеся, играющие солнечные пятна. И я медленно поднимаюсь над всем этим. Поднимаюсь над этим младенцем и вижу его, удаляющегося. И все. И нет страха. Это не страшно. Такое облегчение, что это не страшно. Смерть - это не страшно, это не тупик. Я всегда ужасно боялся смерти. Вернее - последнего мгновения, последней судороги жизни.
— А почему я не боюсь?
- Я не могу этого объяснить. Кто-то, верно, за тебя раньше потрудился. Жизнь более добра к тебе. Ты ведь любишь своего отца, уважаешь? А я нет. Я не способен на ненависть, но я ненавижу эту силу, которая произвела, вытолкнула меня на свет. Я с ужасом и страхом вижу в себе его черты… И Фрейд здесь ни при чем, это ужасно плоско…
…Я никогда бы не сказал это Тарону. Да он и так все знает. У Тарона дикая интуиция, звериная. Но это черное зрение, это человек черного свечения. С Тароном я на самом деле — вот так!
И он ногой отпихнул что-то невидимое. При этом глаза у него ясные и ласковые, и в секунды особенной муки, когда он плашмя бросается на кровать или кусает руки - тогда они особенно ясны.
- Я тоже становлюсь этим… визионером, что ли? Я действительно вижу все, что происходит. И даже могу предсказать. Но это темное зрение… или бесцветное. Света тут нет никакого. Пойми, нет ничего хорошего в таких прозрениях. Я как медиум, меня ведут. Какая-то чужая, чуждая сила ведет тебя и управляет тобой. Обезьянья лапа. Это бред, который всегда сбывается. Вот, наконец, точные слова. Из всех ситуаций я выбираю худшую, и она всегда сбывается… Но есть ощущение, что все еще не кончилось… Все может быть подвержено пересмотру. Какой-то переоценке… Мне нужно сменить тело… Конечно, я сам загнал себя в этот угол.
Если я не напьюсь до полусмерти, я не усну до утра. И опять искусаю себе все руки… Нет, не могу больше пить. Я не могу больше пить, но что же мне еще делать? Я же не могу ни молиться, ни просить…
Последние слова он говорит через подстилку, которой замотал голову, и я его уже почти не слышу, только угадываю отдельные фразы.
— Иди, ты же не можешь мне помочь… ты же не можешь положить мне руку на голову… А бесноватых исцеляют только так. Все очень просто. Только надо положить руку на голову.
|
