Жизнь Тарона Гарибяна
| Вступление | Новости искусства | Жизнь Тарона Гарибяна | Творчество Тарона Гарибяна | Люди вокруг Тарона Гарибяна |
|
Происхождение. Родители. Раннее детство. Школьные годы. Отрочество. Юность. Первая любовь. Работа. Поиски пути. Знакомство с Г.С. Лакшиным и Валерием Мошкиным Новые друзья из ЦРМ. Подруги молодости. Начало занятий живописью. Годы ученичества. Салон Фриде. Школа В.Я. Ситникова Встреча с Аллой. Женитьба и поездка в Карелию. Подводные камни семейной жизни. Разрыв с Аллой. Стихи и рисунки 1965 года. Продолжение следует… |
|
Происхождение. Родители. Раннее детство.В 1969 году, в почти 30-летнем возрасте, Тарон, желая разобраться в своей жизни и улучшить свой литературный стиль, сделал в дневнике несколько записей о своём происхождении и раннем детстве. Поскольку родителей Тарона давно нет в живых, эти записи, безусловно, являются наиболее точным источником сведений о его семье и самом раннем периоде его жизни. Примечание. Заметки Тарона написаны почти без поправок, стиль их при воспроизведении полностью сохранён, однако здесь и далее составители сайта сочли возможным добавить кое-где недостающие у Тарона знаки препинания и т.п. 
Я родился в 1940 г. 5 июня в канун войны в семье (если это можно назвать семьей) людей, неизвестно почему соединившихся, принадлежавших к разному сословию и обладающих разными наследственными возрастами. Моя мать - тип сильный, не застрявший в прошлом своих родителей, происходящая из семьи зажиточных крестьян, зарабатывающих на хлеб силой своей предприимчивости и мускулов. Во время армяно-турецкой резни мой дед, отец матери, был либо убит, либо умер от тифа на оккупированной турками территории (село Спитак, бывш. Амамлу). Семья состояла из моей бабушки Виктории и её детей: мамы, её сестры (Парзик - прим. сост.) и брата Володи. После смерти деда Агабека семья переехала в Баку, а затем в Кисловодск, ведя практически нищенское существование. Бабушка работала в школе уборщицей, мать и Парзик учились, а дядя Володя побирался и продавал сигареты. К тому времени бабушка вышла замуж за некоего Мукуча, и об этом периоде их жизни я ничего не знаю. Затем моя мать или все они переезжают в Москву, почему - не знаю. Далее знаю, что моя бабушка была хромой: турки ей перерубили ноги, и вообще тогда были очень трудные годы. Моя мать Амалия была старшей из детей и вынуждена была помогать материально бедствующей семье. Будучи человеком энергичным (что вообще отличает родственников по материнской линии), она вступает в комсомол (и будучи сама из бедноты) и по путёвке комсомола работает в различных торговых организациях, по-моему, продавцом, а затем уже в секретариате Крупской в Москве. В какое время она встречается с моим отцом, я не знаю. Вообще, по причинам, которые я укажу впоследствии, родители скрывали от меня детали своей прошлой жизни. Мой отец - уроженец Ахбаша Армянской ССР. Родился в семье Арташеса Гарибяна, моего деда, по положению - владельца винного или винных заводов. Семья состояла из деда Арташеса, бабушки Марал, трех сыновей - Сеника, Араза и моего отца Алика, дочери Лусик и Араксы [нрзб.]. Семья буржуазно-националистическая. Вообще-то жалкая буржуазия, которая в те времена существовала в Армении Мой отец, человек очень легко ранимый, склонный к утонченности и вырождению, не был приспособлен к тем бурным событиям, которые разворачивались в России и на всей территории будущего СССР. Дядя Араз был послан дедом в Ленинград учиться в Академию художеств, откуда был отправлен в тюрьму и в ссылку, как сын буржуа. Отец уехал в Москву, и вот где они встретились с мамой, я не знаю. Знаю только, что дед был впоследствии сослан на Соловки, где и умер, о чем мы узнали недавно после его реабилитации. Также вернулся дядя Араз после 25 лет изгнания, и нашёл в себе силы и энергию кончить заочно Плехановский институт и стать значительным специалистом в своей области. Я родился в Чимкенте, куда мать и отец приехали на свидание к дяде Аразу. Затем я был ими привезён в Москву, и вскоре началась война. Отца на фронт не взяли, он был инвалидом-почечником. На фронт ушел дядя Володя. Об остальных родственниках ничего не знаю, так как мы жили в практически чужом городе. Отец был полиграфическим рабочим. Мать работала в Торгсине. Дед неродной - муж бабушки Виктории - либо сидел, либо занимался мелкой спекуляцией, не знаю. Моя бабушка жила с дедом в маленькой каморке во дворе Дома Союзов, с ними жил я. Мне было 4 или 5 лет. До этого мы были где-то в эвакуации. 
На последующих страницах своего дневника Тарон так комментирует свою запись о родителях: Здесь я испытываю некоторое чувство неудовольствия, что писал о людях то, что они возможно и не хотели бы, чтоб я писал. Кроме того, мое неумение писать и подходить к этому сказалось. Я хотел ограничиться лишь легким и точным обзором своей жизни. Но без сказанного трудно было бы мне понять всего из своей жизни, хотя бы мог и держать это в памяти. Я специально сейчас буду писать на следующем листе, чтобы иметь возможность вырвать эти листы. Тут дело, конечно, не в том, что им это неприятно, так как я не пишу здесь ничего унизительного. А дело в страхе, который пустил свои корни, глубоко задев не только этих людей, но и меня, хотя [я] человек совершенно другого поколения. Снова возвращаясь к своему происхождению и раннему детству, Тарон пишет новые подробности о своих родителях, отчасти повторяя уже сказанное. Я родился в 1940 г. в Чимкенте, откуда 3-х месяцев был привезен в Москву. Мой отец - из репрессированной в 1937 г. семьи, не обладал ни профессией, ни образованием. Язык русский знал плохо. Боялся и, по тем временам не без основания, умалчивал о своём происхождении. По природе - застенчивый, утонченный, склонный к вялости и удовольствиям человек, он очень тяжело переживал трагедию своей семьи, но в жизни, кроме страха, я никогда не замечал в нём черт озлобления. Не склонный вообще к сильным чувствам гнева, страсти и злобы, он, скорее, задумчив, обидчив, легко раним, нежен. Мать, наоборот, не имея ничего скрывать, с сильным интересом к жизни, из крестьянской семьи, комсомолка. Она, наоборот, с радостью встречала все интенсивные события тех времен. Но к 1937 году посадили её отчима, а её исключили из комсомола. Тогда она работала в секретариате Н. Крупской. Здесь понятно, что они были люди в чужой стране, предоставленные самим себе и запуганные. Это отгородило их, да и, говорят, в то время все люди, чье воспитание и происхождение как-либо затрагивалось реформами, были запуганы. Я даже сейчас чувствую страх, касаясь этой темы. Здесь я буду говорить только о том, что непосредственно касается моей жизни, старясь не отвлекаться. Отец не был на фронте. Мать была торговым работником. Впоследствии отец был кустарём-одиночкой. Я сам был ребенком с гуманитарными наклонностями, несколько мечтательным, но в то же время эгоистичным, любознательным, вполне энергичным, а главное, цельным. 
К этим записям можно добавить кое-какие детали из устных рассказов Тарона и его матери.
Тарона, естественно, интересовало, что соединило двух столь разных людей. "Бывает любовь, а бывает страсть", - однажды ответил на его вопрос Алик Арташесович. В семье Тарона хранилась фотография молодых супругов: оба красивые, с горячими глазами, мать похожа на гордую хищную птицу. Видно, что эти двое молодых людей сильно любят друг друга. Маленький Тарон, ютившийся в детстве в крошечной комнатушке вместе с родителями, поневоле был тайным свидетелем страстных любовных соитий родителей, о чём позднее вспоминал в весьма откровенных, как ему было свойственно, выражениях, но с должным пиететом. 
Когда сам Тарон впоследствии захотел жениться на неуступчивой и строптивой девушке Алле, в которую был страстно влюблён, он обратился к отцу за советом по поводу своих сомнений, и в ответ ему было сказано: "Закрой глаза, и женись". Этот совет отца, по-видимому, основанный на его собственном брачном опыте, пришёлся Тарону по сердцу и запомнился навсегда. В своем дневнике 1969 года Тарон снова и снова возвращается в мыслях к истории своей семьи и пишет: Итак, мои родители были людьми в чужой стране, и прошлого своего должны были избегать. И далее: О жизни родителей я уже сказал. Итак, когда мне было 4 года, я нахожу себя с бабушкой и дедом. Бабушка знала очень много армянских песен и сказок и до самого 16-летнего возраста я слушал и любил её рассказы и её самую. Уже в то время я видел, как дед, человек жадный и жалкий, бил бабушку. Бабушка искусно готовила пищу из корешков. Родители жили где-то. Меня любили соседи и приятель, мальчик, имени которого я не помню. Мы переехали в Камергерский переулок. Материально живём лучше. Во дворе я очень стеснялся мальчишек, хотел с ними общаться, но точек соприкосновения не находил, поэтому заискивал перед ними тем, что приносил конфеты, а может быть, не заискивал, а жалел. Они не проявляли грубости ни тогда, ни уже потом. Честно говоря, я никогда не имел интереса к их играм, а наоборот, стремился пересказывать им сказки, которые слушал от бабушки, и уноситься в мечтах в сказочный мир. Они же гоняли голубей и озорничали на всю катушку. Из армии приходит дядя Володя, брат матери, сильный и музыкальный, весёлый и очень общительный человек. Здесь впервые он учит меня делать кораблики и фигурки. [Мы] подружились. Он влюбляется в Асю, и оба шутят и дружат со мной. За какую-то спекуляцию Мукуч сидит. Ася умирает. Дядя Володя начинает пить. Бабушка грустит всё больше. Мать и отец перевозят меня во двор [кинотеатра] "Колизея", и мы живём там. (Вернее, с дядей Володей и всё остальное происходит потом. Когда мать, занятая работой, не может следить за мной и отдаёт бабушке, это 45-46 гг.) Живём во дворе "Колизея". 44 год. Там старый ветеран играет со мной и выдаёт мне партизанский билет (сейчас потерян). Я уверен, что я партизан. 
Переезжаем в Подсосенский. Помню первый день. Мальчишки: "Ты кто? - Я партизан". Хохот. После этого рассказываю им "Давид Сасунский" - первая моя книга. А дальше у бабушки с дядей Володей. В раннем детстве Тарон был очень живым и непоседливым ребенком. Он рассказывал, сколько хлопот он доставлял своей хромой бабушке, и позже, уже в Подсосенском переулке - соседке Марие Ивановне, которая приглядывала за ним в отсутствие вечно занятой матери. Он вспоминал: "Я, бывало, всё убегал от неё по нашему длиннющему коридору, а она, держась за сердце, еле-еле за мной поспевала, бранилась и плакала от досады. Но очень меня любила". Гарибяны (впрочем, Амалия Агабековна сохранила свою фамилию - Азатьян) поселились в узкой, как пенал, 9-метровой комнатушке на последнем этаже пятиэтажного дома № 21 по Подсосенскому переулку. Этот дом стоит и поныне во дворе позади красивого особняка с кариатидами и резными потолками, до революции, по преданию, принадлежавшего Морозову. Построенная много позже жилая пятиэтажка раньше служила общежитием или гостиницей и была устроена по коридорному принципу. Комнаты выходили в длинный Г-образный коридор, в каждом колене которого имелась своя дверь, ведущая на лестницу. На изломе буквы Г помещались туалеты, и в каждой части коридора была своя кухня с рядом умывальников и несколькими газовыми плитами. Конечно, никаких душевых или ванных комнат не было и в помине. Бытовые условия были самыми примитивными, но в послевоенные годы люди не были избалованы. Они были рады и такому жилью. Сделать столь скромное пристанище уютным было сложной задачей даже для Амалии Агабековны с её выдающимися хозяйственными способностями. Можно было лишь поддерживать комнату в чистоте, что Амалия и делала с присущей ей энергией. Будучи довольно тщеславной и типично восточной женщиной, она всегда хотела быть, или хотя бы выглядеть социально утвердившимся, успешным, преуспевающим человеком. Увы, жизнь почти не давала ей такой возможности. Репутация превосходной хозяйки и энергичного, предприимчивого директора магазина лишь отчасти отвечали её жизненным амбициям. В отличие от жены, которая ориентировалась в практической жизни, как рыба в воде, её муж не был готов к повседневной борьбе за существование. Тяжелые бытовые условия угнетали Алика Арташесовича, прожившего юность в достатке. Не имея образования, он с трудом мирился с необходимостью зарабатывать простым физическим трудом, ощущая это состояние как унизительное для себя. Серьёзная болезнь почек - этот распространенный недуг изгоев и тоскующих, неудовлетворенных людей - сделала его капризным в пище и требовательным в быту. Приходя домой после утомительного и напряженного рабочего дня, Амалия должна была поспешно готовить еду для мужа, иначе он отправлялся в ресторан, пренебрегая ущербом для семейного бюджета. Разумеется, всё это вызывало подспудное раздражение его жены. 
В архиве семьи Гарибянов хранилась ещё одна фотография, на которой Амалия Агабековна была снята с 4-5-летним Тароном где-то на южном курорте, на фоне пальм и прочих красивостей. Гордое лицо Амалии по-прежнему молодо и красиво, но мрачновато. В чёрных глазах застыла печаль. Как она рассказывала, муж отправил её на курорт для поправки здоровья сына, но дал ей очень мало денег и надолго забыл о них, и только её хозяйственная сноровка позволяла как-то сводить концы с концами. Сам Алик в это время жил в Москве в своё удовольствие, наверняка, не пренебрегая женским обществом. Несмотря на занятость, мать обожала своего первенца и гордилась им. По её рассказам, в раннем детстве Тарон был настолько красивым и прелестным ребенком, что её даже в метро пропускали с ним бесплатно. Ей нравилось наряжать Тарона в нарядные костюмчики с кружевными воротничками и бантами, которые он, по его словам, ненавидел, так как послевоенные дети, дворовые мальчишки, были одеты совсем по-другому. По рассказам Тарона, забота матери, прежде всего, выражалась в стремлении получше его накормить (что, вообще говоря, было вполне естественно для любой матери, особенно в полуголодные военные и послевоенные годы). К тому времени Амалия уже была директором магазина и имела возможность приносить в дом всякие лакомства - шоколадные конфеты, крабы, икру, фрукты. Всего этого дворовые сверстники были лишены, и первым побуждением маленького Тарона было раздать всё это угощение, что выводило из себя его мать - ведь ей эти деликатесы не с неба падали. В воспоминаниях Тарона сугубо материальные заботы матери о нём зачастую оценивались негативно, так как ему, совершенно очевидно, не хватало в детстве её душевного участия. Она была вечно занятой, уставшей и раздражённой, а ребенку его возраста было, конечно, трудно понять и объяснить, насколько изнурительную битву за выживание вела Амалия. К их обоюдному несчастью, запавшая в душу ещё в раннем детстве обида на мать мучила Тарона всю жизнь. И тем драгоценнее были для маленького Тарона редкие мгновения внимания и ласки со стороны менее обремененного заботами отца. Школьные годы. Отрочество.В раннем детстве Тарон был открытым и наивным, как все дети, ещё не столкнувшиеся с жестокостью жизни. Конечно, он стремился сблизиться со сверстниками, но уже смутно ощущал какую-то свою особость, отдельность от них. Начало школьной жизни принесло новые обиды и разочарования. Записи в дневнике Тарона об этом периоде говорят: 47 г. Школа. [Странно, до школы я почти не помню - зач.] Помню торжественное настроение свое и пугающее в школе. Обида первая. "Ваша фамилия?" "Гарибян". Смех. "Национальность?". "Армянин". Опять смех. "Отец работает кустарём". Смех. "Мать - продавец или директор магазина, не помню". Опять смех. Удовлетворённое самолюбие. 49 г. Классная руководительница Вера Владимировна перед всем классом, заметив, что дразнят армяшкой, рассказывает очень любовно об Армении. Дразнить кончают. Школьные занятия оказались не особенно интересными. Что же касается математики и прочих точных наук, то эти уроки просто превращались в мучение - даже с простыми арифметическими действиями у Тарона всю жизнь были нелады. Что же говорить о дробях, пропорциях, логарифмах и прочих абстрактных премудростях?! Неудивительно, что ноги сами несли маленького Тарона прочь от школы. Весна, ручьи, птицы поют, тополиный пух летит - какие уроки?! Замечтавшись, он уходил далеко от дома, и со временем превратился в заядлого прогульщика, что, конечно, не способствовало успехам в школе. Однако, будучи весьма смышленым для своего возраста, Тарон ухитрялся вызывать симпатию и сочувствие у учителей, которые нередко ставили ему положительные оценки в буквальном смысле слова "за красивые глаза". Помимо трудностей в школе, которые, разумеется, вызывали неудовольствие родителей, в особенности - матери, в жизни Тарона-школьника были и другие причины для огорчения. Различие жизненных установок, темпераментов и душевного склада его родителей к этому времени привело к постоянному скрытому напряжению в семье. Всё чаще возникали конфликты между перегруженной, всегда озабоченной матерью, и всё ещё не нашедшим своего места в жизни, но требующим особого внимания и ухода отцом. Горячая и нетерпеливая Амалия часто была по-плебейски несдержанна на язык. Возможно, она была права по сути, но её недовольство часто выражалось в грубой и оскорбительной форме. Легко обижавшийся отец, бывало, в ответ на какой-либо её резко выраженный упрек отвешивал ей звонкую затрещину, чему был свидетелем их сын. В свою очередь, Тарону нередко доставались оплеухи от раздраженной матери. И всё это уже было ему не в диковину, ведь он наблюдал семейное рукоприкладство и раньше, в доме своей бабушки Виктории. Отец, которого Тарон горячо любил всю жизнь, был поглощён своими внутренними проблемами и мало обращал внимания на сына. Его роль в воспитании сводилась к неким ритуалам. Например, Тарону никогда не разрешалась сидеть в присутствии отца. Однажды, стоя перед отцом навытяжку, Тарон чуть не свалился в обморок, потому что у него была высокая температура. Лишь когда мать подхватила пошатнувшегося мальчика, отец заметил его состояние. Интересы сына также не очень занимали Алика Арташесовича. Тарон долго вспоминал с горечью, что однажды в течение нескольких недель он выпрашивал у отца что-то недорогое, но очень ему необходимое. Даже друзья отца сочувствовали мальчику и просили Алика Арташесовича купить, наконец, эту приглянувшуюся Тарону вещь или игрушку. Желая отделаться от приставучего сына, отец подарил ему совершенно ненужный аквариум. На детские обиды Тарона накладывались негативные впечатления, связанные с проживанием в коммунальной квартире, весьма напоминавшей знаменитую "Воронью слободку". Мальчик изо дня в день видел изнанку простонародной жизни: повальное пьянство уставших на войне мужчин, истерики замученных бытом и бедностью женщин, жестокосердие в отношении детей, брань и семейные разборки с мордобитием за закрытыми дверьми. В каждой семье было своё горе: свои убитые или покалеченные на войне, свои сидевшие или сгинувшие за решёткой. Как поётся в известной песне, постояльцы квартиры были скованы единой цепью - страхом. Все знали, о чём можно говорить вслух и о чем надо молчать при любых обстоятельствах. Что же касается повседневного быта, то в коммуналке скрыть что-либо от соседей было практически невозможно. Привычки и пристрастия, пищевой рацион, размеры доходов, характер внутрисемейных отношений - всё это было видно, как на ладони, вплоть до цвета и степени изношенности исподнего, сохнувшего на общей кухне. Конечно, общинно-коммунистический строй в отдельно взятой квартире имел и свои положительные стороны. Люди, хоть и поневоле, участвовали в жизни друг друга. Коммуналка, как и профсоюзы, была школой демократии. Ведь уживаться вместе приходилось самым разным людям. В Подсосенском соседями Гарибянов с одной стороны были цыгане, с другой стороны - украинцы. Жили в квартире и русские, и евреи, и выходцы из Средней Азии. Вечно пьяные люмпен-пролетарии нос к носу сталкивались в коридоре и на кухне с советскими интеллигентами - кого там только не было! Общий быт надо было как-то регулировать, и постепенно выработались довольно жесткие, но вполне справедливые правила поведения и общежития. Среди множества обитателей квартиры было немало отзывчивых и добрых людей. Всегда можно было рассчитывать на чьё-то сочувствие и поддержку в трудный час. Праздники отмечались всем коридором сообща. Выпекаемыми в неимоверных количествах пирогами хозяйки в обязательном порядке обносили соседей. Мужчины бродили из комнаты в комнату, угощая друг друга выпивкой. А что творилось в самый главный праздник, День Победы! Забулдыги-пьяницы надевали свои боевые медали и ордена, превращаясь на время в гордых, почитаемых всеми ветеранов. Не скрывая слез, люди вспоминали тяготы войны. Для ребенка послевоенной эпохи, Тарона, праздник Победы до конца жизни оставался главным праздником в году. Тарон всегда с нежностью вспоминал старика-мастерового Ивана Яковлевича, который, разумеется, прошёл войну, изрядно попивал смолоду, но к старости остепенился. Иван Яковлевич добровольно следил за порядком, собственноручно изготавливал всякие нужные для коммунальной кухни лавки, полки, табуретки, вывешивал на видных местах заботливо окантованные таблички с расписанием дежурств по коридору и перечислением других обязанностей жильцов. Его добрейшую жену, ту самую Марию Ивановну, которая присматривала за маленьким Тароном в отсутствие матери, Тарон тоже всегда вспоминал с любовью. Были и другие семьи, неизменно вызывавшие у Тарона одобрение и даже нежность, например, немолодая уже мать с дочерью-олигофреном, трогательно любившие и заботившиеся друг о друге. Через две комнаты от Гарибянов проживало вполне типичное скандальное семейство: горький пьяница-муж, жена-уборщица и сын-хулиган Генка. Напившись, мужик (маленький, щуплый, но задиристый и горластый) нацеплял свои военные медали и ходил по соседям, сшибая рубли на водку и объясняясь в нелюбви к своей жене, дескать, женился по ошибке. Жена его регулярно голосила в коридоре, проклиная своего паразита-пьяницу. Нередко дело доходило до драки: выпивший муж охаживал свою "случайную и нелюбимую" жену кулаками. Вечером, помирившись, они шли на опустевшую кухню, нажаривали огромную сковороду дешевой по тем временам печёнки, и тихо-любовно переговариваясь, несли её к себе в комнату. Через некоторое время перемирие заканчивалось, и всё повторялось в том же порядке. И так до смерти обоих супругов. Первым умер от пьянки муж, за ним, ровно через месяц, умерла от сердечного приступа жена. И не было повести печальнее на свете, чем повесть об этих послевоенных Ромео и Джульетте. Сын их, кривоногий и низкорослый Генка, постоянно околачивался с местной шпаной в ближайших подворотнях. С ним всё, казалось, было ясно - по таким тюрьма плачет. Но он обладал чудесным, звонким и чистым тенором, и пел иногда так, что на глаза наворачивались слёзы. Много, много таких картин наблюдал Тарон в детстве и юности, многим подобным историям был невольным свидетелем. Жизнь в тяжелых бытовых условиях, в постоянной скученности, без возможности уединения, ярко высвечивала и добрые стороны человеческой души, и людские пороки. Вот что пишет Тарон в своем дневнике о формировавшей его среде: … я в результате самоанализа выяснил некоторые основные качества своей личности как структуру художественную эгоистичную. Нет, не так. Я выяснил, что моя личность претерпела ряд болезненных неестественных нежелательных изменений… Что же способствовало этим искривлениям, эгоизму и озлобленности, отграничиванию себя от окружающего: И далее: Родители, находясь, с одной стороны, сами в изолированном положении, внутренне и внешне не могли считаться с моими интересами, думать и радеть о них. Отсюда также и раскол семейный… Итак, с одной стороны - чужеродность и оглушенность родителей в среде, с другой стороны - отношение среды ко мне как к сыну кустаря и торгработника и неучастие отца в войне создавали обстановку изоляции и недоверия; с другой - необычность структуры только усиливала все эти противоречения… Тарон искал выход для своих чувств и ещё неосознанных художественных устремлений. В 11-12-летнем возрасте он поступил в скульптурный кружок Дома пионеров (знаменитый Дом-комод на Покровке). Уже его первые работы обратили на себя внимание преподавателя. В доме Гарибянов появились пластилин и глина. Однако Амалии Агабековне, которая вела рьяную борьбу за чистоту своего жилища, куда, к тому же, нередко наезжали родственники со всей страны, хватало мусора от занимавшегося сапожным делом мужа. Она с явным неодобрением отнеслась к увлечению сына. Мешки с глиной, шпатели, сохнувшие под мокрой тряпкой фигуры - всё это с её точки зрения было ненужным источником грязи, от которого следовало избавиться как можно скорее. В один "прекрасный день" все принадлежности для лепки полетели в мусорный бак. Тарон увлекся было разведением цветов, но и это скромное занятие не нашло одобрения у матери: опять ненужная грязь в комнате. Жажда ярких жизненных впечатлений обуревала темпераментного и любознательного подростка. Тарон был довольно хрупок, невысок ростом, не обладал особенно крепким здоровьем - с детства у него был порок сердца. Его приятели часто превосходили его по всем физическим параметрам. Например, ассириец Авка (Авра, Авраам) с 4-го этажа, такого же невысокого роста и хрупкого сложения, к 16 годам путём усиленных тренировок превратился в коренастого крепыша-борца. А другой приятель, Володя, сосед по этажу - был и выше ростом, и шире в плечах, чем Тарон. Но зато из Тарона била ключом энергия, и с ним было интересно. Со временем он превратился в заводилу и предводителя дворовой компании, увлекая других ребят буйством фантазии и размахом своих начинаний. Длительные походы по таинственным закоулкам огромного города перемежались с романтическими побегами из дома на природу. Купание в Москва-реке и в прудах, ныряние вниз головой с высоты под восторженное аханье девочек - всё это было, как полагается в юности. Худощавый и стройный Тарон сложением и слаженностью движений напоминал барса или пантеру, одним словом, какое-то не очень крупное хищное животное из семейства кошачьих. Не будучи особенно сильным, он был смелым и ловким пареньком. Не обходилось, разумеется, и без разных хулиганских проделок. Тарон искал приключений - и находил их, на свою и чужую голову. Родители, естественно, роптали, но сделать ничего не могли. И вот настал день (о нём часто вспоминал Тарон), когда разъяренная Амалия, замахнувшаяся на подросшего сына, встретила его сопротивление. Физические меры воздействия на юного Тарона исчерпали себя. К тому же, в то время на свете уже существовал младший брат, Тигран, и внимание матери сосредоточилось на нём. Что, к сожалению, лишь усилило у Тарона ощущение сиротства в собственной семье. В столкновениях с родителями, и в особенности, с матерью, выковывалась его воля - и своеволие. Неприятие родителями поведения подростка, как известно, лишь усиливает его стремление добиться самостоятельности любой ценой. Благо, жизнь в самом центре Москвы, в старых домах с обширными чердаками, в лабиринте проходных дворов предоставляла для этого все возможности. В районе поблизости от Курского вокзала всегда обитало множество сомнительных личностей: мелких жуликов, воров, проституток. Дворы были прекрасной питательной средой для всякой шантрапы и довольно скоро самоутверждение Тарона пошло по линии эпатажа взрослых. Нашлись и приятели - обойдённые вниманием родителей дети пьяниц-соседей. Многие часы Тарон проводил с дружками на просторном чердаке своего дома, где впоследствии даже оборудовал для себя нечто вроде комнатёнки, и горе было бездомным кошкам, попадавшимся на пути ищущих острых ощущений юнцов. Репутация мечтательного и романтического ребёнка постепенно сменялась дурной славой хулигана и жестокого проказника. Тарон рано познакомился со спиртными напитками. По его собственным рассказам, в детстве ему нравилось допивать вино, остававшееся после встреч отца с друзьями за нардами Познакомившись поближе с более взрослыми обитателями окрестных дворов, Тарон и вовсе освоился с выпивкой. Ветераны этого дела охотно доверяли молодежи сбегать в ближайший магазин за бутылкой и делились с ними добытой радостью. Эмоционального и чувственного Тарона интересовала жизнь во всех её проявлениях. Он с удовольствием вспоминал, как, ещё будучи хорошеньким 7-8-летним мальчиком, удостоился чести лицезреть нескольких своих сверстниц, которые добровольно и по своей инициативе разделись перед ним и позволили себя осмотреть со всех сторон и чуть ли не обнюхать. Лет в 12-13 повзрослевший Тарон уже вовсю бегал на свидания с девочками. Особенно ему запомнился случай, когда он одновременно встречался с двумя подружками, переодеваясь и даже гримируясь, чтобы его не разоблачили. Первый "взрослый" любовный опыт случился у Тарона где-то в 14 лет с Инессой, старшей сестрой его дворового приятеля Славки. Инесса была старше Тарона на несколько лет и довольно долго являлась авторитетом во многих вопросах и для Славки, и для Тарона. А дальше пошло-поехало. В проходных дворах и закоулках вблизи Курского вокзала жизнь не замирала ни днём, ни ночью, особенно летом. Дворы на противоположной стороне переулка выводили на пустырь, окруженный кустами и деревьями, который впоследствии был превращен в сквер. По периметру пустыря стояли рядами дровяные сараи, так как в течение полутора послевоенных десятилетий многие московские дома отапливались печами. Так что парочкам было где уединиться. И, разумеется, мужское население переулка не терялось. Были и свои местные знаменитости. Так, Тарон в молодости с восхищением рассказывал о некоем почти 50-летнем Петьке, который, несмотря на хромоту и неказистость, пользовался огромным успехом у местных доступных дам. Взрослые, разумеется, с удовольствием просвещали молодежь, нередко приглашая юнцов поучаствовать в коллективном "любовном пиршестве" со сговорчивыми девушками и тетеньками. Когда Тарону стукнуло 15, нашлась ещё одна новая сфера применения его энергии - верховая езда. Он поступил в знаменитую и единственную в то время конно-спортивную школу общества "Урожай" в Сокольниках. И опять встретил непонимание и яростное сопротивление матери, считавшей верховую езду опасным и недостаточно респектабельным занятием. Впоследствии Тарон иронически комментировал её отношение так: "Ей хотелось бы, чтобы я играл на скрипке, но, слава Богу, он не дал мне таких способностей". В своем противостоянии дурному увлечению Тарона мать доходила до того, что запирала его дома, чтобы он не попал на тренировку. Он же, по его словам, к ужасу соседей выбирался из окна на 5-м этаже по водосточной трубе. Особого упоминания заслуживает отношение Тарона к животным. Нельзя сказать, чтобы он их любил. Сентиментальное чувство жалости и любви к животным обычно закладывается в детстве, но, разумеется, о том, чтобы завести какую-нибудь зверюшку в маленькой комнате, брезгливая Амалия не могла и подумать. Однако животные, их честная жизнь и стойкое сопротивление смерти, вызывали острое любопытство у юного Тарона. Ему очень нравилось ходить в зоопарк. Его настольной книгой в детстве и юности был Брем Неудивительно, что Тарон увлёкся лошадьми. Его романтической и активной натуре особенно нравилась возможность и необходимость подчинять себе мощное и умное животное, без чего хорошего наездника не бывает. Но азарт верховой езды был не единственной причиной, по которой Тарон так стремился на ипподром. В спортивной школе он встретил свою первую настоящую любовь. Юность. Первая любовь.Большинство сверстников Тарона в спортивной школе "Урожай" составляли, разумеется, юноши. Однако среди наездников было и некоторое количество девушек, и кое-кто из них занимался верховой ездой уже не первый год. Лида Романова, невысокая круглолицая девочка с кудрявыми волосами и крепкой, ладной фигуркой, сидела в седле как влитая. По команде тренера она уверенно меняла аллюр с рыси на галоп и сходу брала барьеры, что не позволялось новичкам. Тарону поначалу было далеко до неё. Но и он был смелым и решительным парнем, это было видно с первого взгляда, а его яркая восточная внешность сразу привлекла её внимание. Живая и веселая, она первая начала задирать его, подтрунивая над его ошибками, а самолюбивый Тарон лез из кожи вон, чтобы отличиться перед насмешливой девчонкой. Как и все наездники, они проводили много времени на ипподроме, не только на тренировках, но и в конюшнях, ухаживая за лошадьми. Тарона и Лиду всё чаще видели рядом, и вскоре они уже приходили и уходили вместе. Конечно, они встречались и вне спортшколы - ходили в кино, зоопарк, и просто гуляли по московским улицам вдвоём, или втроем, вместе с закадычным другом Тарона Ленькой. В тёплое время года можно было отвести душу за городом, на природе, с ночёвкой в палатке. На одной из памятных фотографий тех лет юный Тарон с разрисованным зубной пастой лицом, с какими-то перьями в волосах и травяной юбкой на бёдрах, скорчив "страшную" рожу, замахивался томагавком, т.е. топориком, на притворно испуганную Лиду, сидевшую у костра. Ленька тоже присутствовал на этой фотографии в качестве третьего азартного участника дикарского действа. О нем, погибшим в молодости какой-то случайной, нелепой смертью, или даже покончившем с собой, Тарон впоследствии очень горевал, говоря, что не было у него в жизни лучшего друга. "Он был моё второе "я". Он ничего боялся и был всегда готов, вслед за мною, на любые отчаянные проделки", рассказывал Тарон. Лида, конечно, быть вторым "я" для Тарона не могла. Ведь она была девочкой, к тому же вполне "правильной" девочкой с твердыми моральными устоями и комсомольскими идеалами. Тем не менее, они с Тароном были очень близки. Тарону нравились Лидина смелость, её открытый, независимый характер, а она была ему самоотверженной и верной подругой. Оба они были романтиками, мечтали о высокой любви и предались друг другу с упоением и пылом безрассудной юности. Взаимное влечение этих двух юных существ было естественным и чистым, как всякая первая любовь. Им не так уж часто выпадала возможность побыть наедине. Но зато, когда Лидины родители куда-нибудь уезжали, Лидина квартира оставалась в их распоряжении, и, по словам Тарона, они "только и бегали в ванную и друг на друга". Хотя Тарон и обладал уже некоторым опытом, это была пора счастливых открытий для них обоих. Не обходилось, конечно, без размолвок. Тарон дерзил взрослым и постоянно конфликтовал с ними, и Лида в своих требованиях к нему часто оказывалась на стороне Амалии Агабековны - ведь они обе хотели Тарону только добра. "Как ты смеешь грубить человеку втрое старше тебя!", возмущалась Лида. Тарон огрызался - но подчинялся ей. Лида была чистой, неиспорченной девушкой, а Тарона разрывали на части соблазны, которым Лида пыталась противостоять. "Я лупил её как сидорову козу", рассказывал Тарон впоследствии, "а потом мы вместе плакали". Тарону хотелось перепробовать все запретные плоды. Разумеется, он уже курил сигареты, успел познакомиться и с анашой. По примеру отца, ему нравилось одеться понаряднее и проводить время в кафе, в обществе более взрослых людей, соря деньгами - конечно, родительскими. А когда этих денег не хватало на развлечения, случалось ему и утаскивать что-нибудь из дома, к ужасу и возмущению родителей. Несмотря на привязанность к Лиде, Тарон не упускал случая приударить за другими привлекательными девушками и даже женщинами, порой проявлявшими интерес к красивому юноше с пламенными очами. Скрывать от Лиды свои похождения Тарон не считал нужным. Она огорчалась, плакала - и всегда прощала его. 
"Ты сам не знаешь, что тебе нужно", говорила ему Лида. "Ты похож на человека, идущего за своей звездой неведомо куда". И она была права. Беззаботное детство осталось позади, но Тарон так и не мог определиться, чем бы ему хотелось заниматься в будущем. Идея усердного труда на благо родины и перспектива спокойной семейной жизни его явно не привлекала. Дела в школе шли всё хуже и хуже. Ко всему прочему, он попал в какую-то дурную компанию, и о нем даже написали в какой-то центральной газете, как о представителе "золотой", т.е. никчемной и порочной молодежи. Не зная, как с ним совладать, и желая оторвать Тарона от дурной компании, родители решили отослать сына в Ереван под присмотр тети Парзик и прочих армянских родственников. Каким-то образом удалось договориться о том, чтобы Тарона и его приятеля Володьку, сына соседей Гарибянов по этажу, приняли в Ереванский радиоэлектронный техникум. Видимо, других возможностей позаботиться о сыне у родителей не было. Более неудачный выбор, однако, сделать было трудно - ведь Тарону, с трудом усвоившему четыре арифметических действия, учиться в таком заведении было решительно невозможно. Тарон и Володя прожили в Ереване почти год. Для них этот город был местом новых приключений и соблазнов, а вовсе не усердных занятий. В Ереване, в отличие от Москвы, анашу, или "план", как тогда говорили, достать было очень легко. Деньги, присылаемые на прокорм и оплату жилья, немедленно улетучивались. За пропуски занятий и злостные прогулы, а также по причине полной неспособности к точным наукам Тарона вскоре отчислили. Узнав об этом от родственников, Амалия Агабековна в гневе перестала посылать сыну деньги. Володя каким-то чудом удержался в техникуме, но его маленькой стипендии катастрофически не хватало на двоих. Так что вскоре два приятеля лишились и жилья и пропитания. Они кочевали вместе из дома в дом, по многочисленным ереванским знакомым и родственникам Тарона, всё менее и менее приветливым с незваными гостями. Иногда Тарон и Володя находили приют и обед у знакомых ереванских конников. Тарону даже пару раз удалось заработать какие-то деньги в конной массовке в кино. Однако в целом их с Володей материальное положение было настолько плачевно, что с голодухи оба наши героя исхудали как черти и покрылись чирьями. Трудности полуголодного существования в Ереване не мешали, однако, Тарону жадно впитывать впечатления. Он без устали слонялся по городу, один или вдвоём с Володей, упиваясь яркостью южной растительности, любуясь оттенками зданий из розового и желтого туфа. В его уши вливался гортанный, спотыкающийся на согласных местный говор. А когда удавалось перехватить каких-то деньжат, можно было побаловать язык и небо сладостью роскошных персиков, гладкостью слив и винограда, остротой армянского сыра и пряностью рейхана и остролистого кресс-салата. От пестроты, запахов и гомона восточного базара кружилась голова, а от красоты окружающего город пейзажа перехватывало горло. В особо ясную погоду за тридевять земель можно было разглядеть заснеженную главу Арарата. Но и в остальные дни очертания окрестных гор доминировали над городским пейзажем, задавая тон всему виденному. Как у Толстого Льва Николаевича Толстого После долгих мытарств приятели нашли временное пристанище у одного пожилого балетомана, не оставшегося, по-видимому, равнодушным к юношеской красоте Тарона. Впрочем, отношения Тарона и Володи со старшим благодетелем были вполне невинными. Он приютил и подкармливал ребят, они же помогали ему ухаживать за садом и домом. О садоводческих талантах этого человека и о его доброте к заблудшим юношам Тарон долго вспоминал с искренней благодарностью. Покровитель Тарона и Володи был культурным, образованным человеком. Он познакомил Тарона с армянской классической литературой, с эпосом о Давиде Сасунском. Он свозил своих юных друзей в Эчмиэдзин и Гарни. Глазами не ребенка, а уже почти взрослого человека Тарон увидел усыпанные камнями безжизненные равнины под лучами жестокого солнца, высеченные в толще гор древние христианские храмы, ярко-синюю гладь Севана, украшенные тонкой резьбой каменные плиты, установленные на пересечениях дорог вместо часовен. Каждому человеку когда-то нужно узнать и почувствовать свои корни. Корни Тарона были в этой древней, суровой и нежной земле. Тарон любил в одиночестве бродить по горам. Он находил спрятанные в укромных местах родники и видел, как играет форель в ледяных горных речках. Слава воде! Повалившись на спину, он часами следил за парением орлов в белёсом от жары небе - это было любимое его зрелище, и крику орлов он впоследствии замечательно подражал. Ещё одним любимым развлечением в тот незабываемо-яркий период его жизни была охота на смертельно опасных гюрз. Всё, связанное с опасностью и риском, всегда притягивало к себе Тарона, как магнитом, и он постоянно испытывал себя. "На погибель влекут нас тени великих гор…" писал он несколько лет спустя в одном из лучших своих стихотворений. Тарон горячо полюбил своих склонных к красивым жестам, но вместе с тем щедрых и великодушных соотечественников. Нередко чужие люди относились к нему более дружелюбно, чем родные, на которых обрушивались из Москвы гневные филиппики Амалии. А, побывав в тех местах, откуда был родом его отец, он услышал добрые слова памяти о своих предках и узнал происхождение и значение своей фамилии - Гарибян. "Гариб" по-армянски - странник, и даже чужестранец. Образы, краски и ритмы Армении можно найти во многих картинах и стихах Тарона. Прожив всю жизнь в самом сердце России, в огромном мегаполисе, он сохранил трагическое мироощущение, пафос и врожденную религиозность своего народа. Армянский поэт, мальчик курчавый, Жизнь в Армении дала Тарону огромный запас впечатлений, но в смысле образования не принесла даже школьного аттестата. Пришло время возвращаться домой, в Москву, где его ждали родители и Лида. Родители Тарона по-прежнему пребывали в тревоге за судьбу непутевого сына. Пуще того они опасались его вредоносного влияния на младшего брата. Что же касается повзрослевшей Лиды, то она ждала его с замиранием сердца. Дожидаться его звонка, стука в дверь, неделями тосковать в предвкушении нечастых писем из Еревана - было привычным для неё занятием. Она предчувствовала, что долгая разлука что-то изменит в их отношениях. Но любовь к Тарону, если не считать дочерней привязанности к родителям и пристрастия к лошадям, давно уже стала основным содержанием её жизни. А он? В нём она не была уверена. Разумеется, жадный до впечатлений и чувственный Тарон не был ей верен. Он приобрел в Ереване новый любовный опыт. У него было несколько девушек, одна из которых, Лаура, впоследствии журналистка, бывая в Москве, на протяжении многих лет поддерживала самые тёплые отношения с Тароном, пока их пути не разошлись окончательно. Не раз Тарон вспоминал в молодости и мимолетное знакомство с взрослой, 40-летней армянской женщиной, которая, по его словам, "знала о мужиках всё" и поразила его своей сексуальной раскрепощенностью и виртуозностью. Обо всем этом Лида пока не знала. Тарон вернулся, наконец. Он позвал её и она была на первых порах совершенно счастлива. Через некоторое время после возвращения Тарона его родители получили долгожданную двухкомнатную квартиру на Хорошевском шоссе. Комнату в Подсосенском они оставили старшему сыну. После безуспешных попыток направить его на путь истинный и заставить учиться, они предоставили ему свободу жить, как ему хотелось. Разумеется, он должен был найти какую-нибудь работу и перестать рассчитывать на родительский кошелёк. Работа. Поиски пути. Знакомство с Г.С. Лакшиным и Валерием Мошкиным5 июня 1960 года Тарону исполнилось двадцать лет. Пребывание в Армении в течение почти полутора лет, несмотря на хроническое безденежье и другие невзгоды, оставило в нём ощущение счастья, свободы и наполнило его бурлящей энергией. Линии и ритмы армянской природы, звуки армянской речи были настолько созвучны строю его души, соответствовали его темпераменту, что он впервые в жизни почувствовал себя в родной стихии. Подобно Антею, он набрался сил, прикоснувшись к этой земле. Однако ему отнюдь не было ясно, куда приложить свои силы после возвращения в Москву. Возможность жить самостоятельно и полностью распоряжаться собой вдохновляла Тарона. Первое, что следовало сделать - переустроить жильё на свой собственный лад. Вынеся все лишние вещи в коридор и на свалку, Тарон освободил пространство своей небольшой комнаты. Для чего это было нужно - он и сам ещё не знал. Может быть, чтобы снова заняться скульптурой? Второй неотложной задачей были поиски какой-либо работы, хотя бы на первое время. Выбор работ, на которые мог поступить 20-летний юноша с неоконченным средним образованием, был невелик. Ученик токаря, ученик фрезеровщика, рабочий в кафе и т.п. - такие записи в изобилии украсили трудовую книжку Тарона в первый год его самостоятельной жизни. Всё это были рабочие профессии, мало что дававшие его уму и сердцу. Нигде он не задерживался дольше 1-2-х месяцев. Новая обстановка была на первых порах любопытна, конечно, но он чувствовал потребность в чём-то ином, чего ему не могли дать ни знакомая с детства пролетарская среда, ни относительно мало образованные родители. Познакомиться в достаточной степени с армянской культурой, сколь бы родственной он её не ощущал, Тарон не мог, так как жил он в Москве и плохо знал литературный армянский язык. Кроме того, он никогда не был склонен к схоластическому, отвлечённому освоению каких-либо знаний. Спустя несколько лет он с глубокой иронией и даже сарказмом вспоминал безуспешные попытки "доброжелателей" направить его на стезю образования. Время твое не пришло, погоди. Он уже имел опыт обучения в школе и техникуме, с него хватало. Да он и не знал толком, чему ему учиться. Ясно было только, что интересы его лежат в гуманитарной сфере и связаны с искусством. Ему нужны были живые люди, через которых он мог бы прикоснуться к русской и мировой культуре. И словно идя навстречу его пожеланиям, Бог посылал ему новых знакомых и друзей. В одном дворе с Тароном жила пожилая интеллигентная женщина, Серафима Сергеевна. У неё был брат, такой же бобыль - профессиональный чтец-декламатор Глеб Сергеевич Лакшин. Живя неподалеку от Подсосенского, на Маросейке, Г.С. чуть ли не ежедневно навещал сестру. Видимо, в каком-то разговоре с братом имя Тарона было упомянуто Серафимой. Судя по рассказам, Тарон был не вполне ординарной фигурой. Г.С. уже и сам приметил красивого черноглазого паренька, в котором при более близком знакомстве увидел какие-то проблески художественной одарённости - в стиле речи и строе мыслей. Г.С., сутулый, почти горбатый пожилой человек с лошадиным лицом, любил окружать себя молодёжью. Несмотря на внешнюю непривлекательность, ему было чем заинтересовать молодых друзей. Он был чрезвычайно начитанным человеком, укоренённым в русской культуре. Сохранив в душе идеалы дореволюционной России, он не боялся высказывать критические мнения по поводу нашей страны. К тому же у него был звучный голос и немалый актёрский талант. Г.С. был прирожденным учителем и просветителем. У него была куча преданных учеников, которых он приобщал не только к искусству декламации, но и к культуре вообще. Книги, спектакли, музеи - всем этим Г.С. с радостью делился со своими учениками, в числе которых оказался и Тарон. Видимо, благодаря Г.С. в записной книжке Тарона 1961 года появился длинный список авторов и названий книг, о которых прежние друзья и родители Тарона не имели представления. Степняк-Кравчинский. Подпольная Россия. Далее идут имена Руссо Тогда же в записной книжке появились и записи, свидетельствующие о глубоком интересе Тарона к изобразительному искусству, притом не теоретическом, а вполне практическом. Леонардо да Винчи. Трактат о живописи. Ясно, что Тарон в это время уже всерьёз задумывался о занятиях изобразительным искусством, хотя записи эти чередуются с пометками о неотложных бытовых нуждах (ремонте обуви и т.п.) и списками кредиторов-соседей, у которых Тарон стрелял по нескольку рублей, чтобы дотянуть до очередной зарплаты. 
Ещё одним новым знакомым, занявшим огромное место в жизни Тарона, был его сверстник Валерий Мошкин. Как и семья Тарона, семья Мошкина пострадала от советской власти. Родители его были репрессированы. Мошкин родился чуть ли не в лагере, вырос в ссылке слабым и болезненным ребёнком и рано осиротел. Нежное и ранимое существо, Мошкин жил на пределе своих сил. Время от времени он где-то работал, но, как и Тарон, нигде не задерживался подолгу. Выброшенный на обочину ещё в малолетстве, он смотрел на жизнь, как на нескончаемую трагедию, и чувствовал свою обреченность. Невысокий и худенький, Мошкин был совершенно беззащитен - и безрассудно смел. Своим маленьким кулачком он замахивался на всемогущее государство, разрушившее жизнь его семьи и искалечившее миллионы человеческих душ. Он был трогателен и жалок, как взъерошенный воробей, храбро бросающийся в ощерившуюся звериную пасть. Валерий писал стихи - пронзительные и предельно искренние. Мой дом - моя больница. Тарон увидел в Мошкине родственную душу - ему так её не хватало. Они оба остро ощущали свое сиротство (в случае Тарона - при живых родителях) и отрыв от родных корней. Оба они органически не были способны устраиваться в жизни с комфортом, и чувствовали себя чужаками и изгоями не только по чисто биографическим причинам, но и вследствие особого устройства души, отделяющего их от окружающих непреодолимым барьером. И Мошкин, и Тарон обладали чрезвычайно развитой способностью испытывать страдание. Именно оно заставляло их искать возможность выразить себя. Страдание - и поэзия… Страдание - и искусство… Чтобы не пускаться в кощунственные рассуждения на эту тему, предоставим слово замечательному французскому писателю Мишелю Уэльбеку …В основе мира - ядро страдания… Живые организмы развиваются, усложняются, делаются разнообразнее, но их основа остается неизменной. Когда достигается определенный уровень сознания, раздается крик. С него начинается поэзия. Членораздельная речь также. И далее: Вам не грозит счесть страдание целью, к которой надо стремиться. Страдание есть, следовательно, быть целью не может. Все настоящие поэты идут одной и той же дорогой, нередко рискуя рассудком и самой своей жизнью ради достижения полного знания о себе и самовыражения. Мошкин вступил на эту дорогу первым и сошел с неё раньше, чем более жизнестойкий Тарон. Уже в момент знакомства с Тароном у Валерия были заметны некоторые признаки душевной болезни, которая впоследствии привела к его ранней гибели. Он был очень нервным, вспыльчивым, склонным к депрессии. Его одолевали сомнения и страхи, от которых он спасался вином. Даже в лирических стихах Мошкина - впрочем, все они были лирическими - звучал надрыв. Это была больная, сбивчивая речь истинного поэта, способного на поразительные откровения. О себе и себе подобных он писал: Вечные шизоиды, Валерий был, возможно, первым человеком в жизни Тарона, с который он мог быть самим собой и полностью раскрыться, не боясь непонимания. Тарон бесконечно любил Мошкина, восхищался его поэтическим даром и сострадал ему всем сердцем. Новые друзья из ЦРМ.
Перепробовав множество занятий, Тарон в поисках более интересной работы, каким-то образом связанной с искусством, весной 1962г. устроился рабочим в Центральные реставрационные мастерские (ЦРМ), где под началом известного знатока древнерусской архитектуры и живописи, архитектора-реставратора Л.А. Давида, трудилась целая когорта молодых людей - будущих архитекторов. Вся эта компания в теплый сезон выезжала в разные дальние уголки России, туда, где чудом сохранились полуразрушенные древние церкви. Вместе с другими молодыми людьми Тарон занимался обмером этих зданий для последующей реставрации. Эти поездки, увлекательные сами по себе, дали Тарону возможность приобщиться к древнерусской культуре и побыть в окружении гуманитариев, по-настоящему преданных своей стране. Не секрет, что в 60-е годы, когда едва приоткрылась завеса, скрывавшая страшные тайны нашего государства, многие образованные люди в обращении к старине обрели внутренний стержень и духовную опору. Многие знакомства, завязавшиеся у Тарона во время работы в ЦРМ, обратились в многолетние дружбы. Так, одним из ближайших друзей Тарона стал будущий архитектор Иван Кроленко. Семнадцатилетний Иван, только что окончивший школу, уже в то время был утонченным ценителем прекрасного, вдумчивым и проницательным человеком, прекрасно разбиравшимся в российской истории. По закону притяжения противоположностей, по-восточному страстный и импульсивный Тарон быстро подружился со сдержанным и интеллигентным Иваном. К тому же Ваня жил неподалеку от Тарона, на Покровке, почти напротив того "дома-комода", где Тарон в детстве занимался скульптурой. 
Тарон очень ценил критичный ум и образованность Ивана и дорожил его дружбой. "Ваня, ты - это логики жало змеиное…" писал он в одном из своих стихотворений. И далее: Вот общения струя голубая… Там же, в ЦРМ, Тарон познакомился и с Сержем Блезе. Мягкий и обаятельный Серж, рафинированный интеллигент и эстет, ощущал в Тароне избыток той жизненной силы, которой ему самому несколько не хватало. Ваня Кроленко познакомил Тарона со своим сокурсником Александром Путовым, и Сашино знакомство с Тароном вскоре переросло в тесную дружбу, насколько это было возможно между людьми столь разного склада и темперамента. Эта дружба впоследствии сыграла очень большую роль в жизни Тарона. Среди обретенных в ЦРМ друзей Тарона был и Владимир Казьмин, впоследствии известный, но рано умерший авангардный художник. Володя Казьмин (дружеское прозвище - Казик) любил и умел сводить друг с другом людей сходных интересов. Через пару лет после знакомства с Тароном Володя Казьмин привел к нему своего приятеля, Мишу Айзенберга. Михаил Айзенберг, как и Ваня, Серж, Володя и Саша, был студентом Московского архитектурного института (МАРХИ), весьма элитарного по тем временам учебного заведения, в котором училось много представителей потомственной интеллигенции. Обратившись к литературному творчеству после семнадцати лет работы в архитектурной реставрации, М. Айзенберг прекрасно передал дух МАРХИ в те годы в своем эссе "Ваня, Витя, Владимир Владимирович" (журнал "Знамя", №8, 2001 г.). В этом эссе, в основном посвященном Ивану Кроленко, упоминаются и Казик, и Серж Блезе, и Тарон. 
Весьма характерно, что большинство молодых архитекторов-друзей Тарона 60-х годов впоследствии оставили архитектуру (лишь И.И. Кроленко - по-прежнему архитектор). Это не удивительно, потому что так называемая "архитектура" эпохи массового жилищного строительства не давала талантливым молодым людям возможности выразить себя. Такую возможность давала им живопись, притом живопись, не отвечавшая академическим канонам того времени. Прошло всего несколько лет, и Серж Блезе и Володя Казьмин стали видными представителями авангарда, участниками выставок на М.Грузинской, членами знаменитого Московского объединенного комитета профсоюза художников-графиков. Саша Путов, в конце 60-х эмигрировавший в Израиль, тоже стал прекрасным художником. Теперь он живет и работает в Бретани, на юго-западе Франции. Показательна судьба ещё одного друга Тарона той поры - искусствоведа Георгия Малкова. Главным профессиональным интересом Юры Малкова было православное искусство Древней Руси, но открыто заниматься исследованиями в этой области в рамках официального искусствоведения, а также публиковать свои работы в 60-е годы Юра не мог. Глубокий интерес к религиозному искусству естественным образом привел его в церковь. Несколько лет назад Георгий Малков принял сан священника. В настоящее время о. Георгий Малков окормляет паству в московском храме Рождества Иоанна Предтечи на Красной Пресне. Начало 60-х годов, омрачённое тенью сталинского прошлого и угрозой надвигающейся реакции, было, тем не менее, эпохой счастливых открытий для молодежи с творческими задатками. В воздухе всё ещё пахло оттепелью. Вспыхивали новые, вернее, хорошо забытые имена в литературе. Откуда-то из-за рубежа просачивалась информация о неизвестных и ранее замалчиваемых исторических фактах. Интеллигенция взахлеб читала самиздат. В актовых залах институтов собирались толпы студентов на поэтические вечера Б. Окуджавы Легко понять, что привлекало Тарона в его новых друзьях. Интеллигенты, более того, интеллектуалы - они были носителями новых для него знаний и идей. В экзотической берлоге Тарона, где регулярно появлялись указанные выше персонажи, вспыхивали яростные споры по поводу искусства, велись дискуссии о событиях истории, и вообще, - о жизни. Как известно, в спорах побеждает не тот, кто прав, а тот, кто обладает более сильной психической структурой. Не удивительно, что Тарон, превосходивший собеседников темпераментом и прошедший достаточно жесткую жизненную школу, обычно одерживал над ними верх. Да, он не был образованным человеком. Знания, которыми обладал Тарон, он добывал не из книг, а казалось, откуда-то из воздуха, а может быть, они были даны ему от рождения. "Земля сама подсказывает тропинке, где ей пролечь" - такие вот неожиданные суждения сыпались из него, как из мешка. Темные углы и пропасти жизни, в которые он уже в отрочестве бросался, не раздумывая, открыли ему многие тайны человеческой психики. Его взгляд на жизнь отличался глубокой оригинальностью, и некоторые из посещавших его друзей смотрели на него, как на своего духовного учителя. Тарон любил своих друзей. Он воздал дань всем им, включая (Анатолия Зверева, с которым познакомился через несколько лет, в своем стихотворении 1966 года. Это стихотворение - настоящий гимн художникам и искусству вообще. Стрижи проносятся стайкой Да, Тарон любил своих друзей. Но уже в молодые годы ему было свойственно и привычно доминировать в общении с людьми, а это многих тяготило. Мало кому была по вкусу способность Тарона в иные минуты, особенно под воздействием винных паров, не считаться с чужими чувствами. Кое в чём Тарон, как и многие выходцы из низов, был дремучим человеком, и даже дикарём. Взять хотя бы его отношение к женщинам. В глубине своей архаической души Тарон считал их низшими и подчинёнными относительно мужчин существами. Ни на какое "рыцарство" Тарон был органически не способен. Услаждать досуг мужчины и служить ему - такова была функция женщины по его восточным представлениям. Весьма характерна для Тарона реальная (но, вполне возможно, и выдуманная) история, которую он любил рассказывать своим приятелям, и особенно - приятельницам. В Ереване ко мне привязалась собака-дворняжка. И так она мне надоела своей любовью, что я взял да и сбросил её с моста в реку. Но она выбралась из воды и кинулась мне с восторгом на грудь, стала облизывать мне лицо, как ни в чём не бывало. От такой преданности я просто о…ел. И уж тут и я её полюбил всей душой. Смысл этой истории или, если хотите, притчи, вполне понятен. Жёсткость и даже жестокость, свойственная Тарону в иные минуты, отталкивала от него более цивилизованных людей. Некоторые из его новых знакомых со временем начинали обороняться от наскоков Тарона и постепенно отходили в сторону. Но, будучи великолепным интуитивным психологом, он мог быть и неотразимо обаятельным. Оригинальность суждений, эмоциональность и красноречие привлекали к нему всё новых и новых людей. Подруги молодости. Начало занятий живописью.Девушки и женщины самого разного облика и всех сословий слетались на красивого молодого человека с пламенным взором, как бабочки на огонь. Иные оставались на час, иные - задерживались на месяц, и не было им числа. Всё молодое женское население дома 21 и окрестных домов в той или иной степени было знакомо с Тароном. Чувственный и жадно любопытный к жизни, он охотно коллекционировал женские типы и образчики женской психологии. К тому времени он был уже сильно избалован женским вниманием. Однако Лида оставалась его возлюбленной. Заботливая, преданная, она горячо любила его, как и раньше. Он же, несмотря на сильную привязанность к ней, почти не скрывал от нее своих похождений, чем причинял ей жестокие страдания. Впрочем, разумеется, не все его приятельницы были с ним близки. Кое для кого этот этап давно остался позади, как для Инессы, иные же просто предпочитали дружбу с начинающим художником. Кроме интереса к этой неординарной личности, некоторые чувствительные подруги Тарона испытывали к нему и чувство невольного сострадания - ведь в глазах Тарона нередко сквозила глубокая грусть, граничащая с отчаянием. Приступы черной тоски случались с Тароном и в ранней юности, особенно осенью и весной. Однажды, ещё до поездки в Армению, ему было весной так тошно, что Лиде пришлось буквально лезть из кожи вон, чтобы вывести его из этого состояния. Она упрашивала его: "Милый, пойдём в зоопарк, пойдём в кино!" - ничто не помогало. Наконец, она уговорила Тарона поехать на юг, и только там, на залитом солнцем морском берегу, депрессия его отпустила. Весной 1961 года, когда Тарон ещё числился в учениках Глеба Сергеевича, он познакомился с Викой Лялиной, совсем юной девушкой, которая заканчивала среднюю школу. Она жила со своими родителями, дедом и бабушкой почти напротив Тарона, в доме 28 по Подсосенскому переулку. Виктория была начитанной и романтической девушкой, совершенно не знакомой с тёмными сторонами жизни. Её родители были инженерами. Отец был родом из семьи известных до революции тульских промышленников, восходящей к первым тульским оружейным мастерам петровской эпохи. Бабушка и дед происходили из состоятельных и культурных еврейских семейств Одессы и Могилёва. Оба они ещё в юности из идейных соображений приняли православие и русская культура была для них родной. Дедушка Виктории, Борис Яковлевич Улинич, был архитектором-конструктивистом, водил знакомство с множеством интересных и талантливых людей - архитекторов, музыкантов, поэтов. В частности, он учился во ВХУТЕМАСе с Бурлюком, Кручёных и Маяковским Одним из знакомцев бабушки был и Глеб Сергеевич Лакшин. Однажды он обратился к К.М. с просьбой - разрешить устроить в её большой квартире вечер, посвященный Паустовскому Через пару месяцев она случайно встретила Тарона в проходном дворе. Он резво передвигался в сторону Подсосенского на костылях. Потом, уже много лет спустя, Виктория узнала, что Тарон, накурившись "плана", попал под мотоцикл. А сейчас она, ничего не подозревая, поздоровалась с Тароном, поинтересовалась, что с ним стряслось, а он сходу пригласил её в гости, и показал своё окно на пятом этаже. Ещё через неделю Виктория впервые ступила на порог холостяцкого жилища нового знакомого. Её, привыкшую к теплому уюту своего дома, сразу поразил вид этого крошечного, узкого как пенал, помещения. Обоев на стенах не было. Никакой фабричной мебели, кроме зеркала на стене - тоже. У окна на деревянных магазинных ящиках стоял досчатый топчан, покрытый деревенским рядном. На топчане полулежал-полусидел Тарон, перед ним на табуретке стояла початая бутылка водки и стакан. На окне в горшке рос одинокий ирис, листьями которого Тарон закусывал. Несмотря на крайний аскетизм, жилище Тарона обладало своеобразной красотой. На деревянных полках стояли немногочисленные книги и какие-то стеклянные сосуды, чашки и тарелки. Одну ярко расписанную цветами тарелку, Тарон показал Виктории и объяснил, что выпросил или поменял у соседей, не понимавших её ценности. Ещё он обратил внимание Виктории на деревенские глиняные горшки, стоявшие там же, на полках. "Это же настоящие амфоры, смотри!" На стене, противоположной топчану, висела неоконченная пастель - что-то морское в синих тонах на большом листе ватмана. Тарон был совершенно трезв - Виктория тогда совсем не разбиралась в этих состояниях - но грустен. "Я поссорился со своей девушкой и мне сегодня не работается", объяснил он и сказал несколько слов о Лиде. Виктория слушала его, не перебивая. Что она, юная девушка, могла ему сказать? Зато она была хорошим слушателем. Да и Тарон предпочитал говорить сам. "Я очень люблю сумерки", сказал он. "Посмотри на крыши, как их освещает солнце". Виктория смотрела вместе с Тароном на крыши домов и в её сознание входил его, таронский, образ любимого города. Спустя несколько лет она прочла стихотворение Тарона, в котором ей все было так знакомо: Голубое шалое небо С тех пор Виктория время от времени заходила к Тарону на огонёк. Вскоре она познакомилась со Славкой-Боцманом, приятелем и слугой-подмастерьем Тарона. Иногда она встречалась и с другими посетителями Тарона: Ваней Кроленко, Мошкиным. Мошкин производил на неё грустное и тяжёлое впечатление. Он обычно был пьяным, слишком возбужденным и явно не вполне здоровым, хоть и чувствовалось по всему, что талантливый человек. Лиду или каких-нибудь других девушек она никогда не встречала, но знала об их существовании из разговоров с Тароном. Не имея постоянной работы и источника доходов, Тарон перебивался случайными заработками. Одним из таких заработков были поездки на Север за иконами. Общаясь с архитекторами и реставраторами в ЦРМ, Тарон проникся интересом к древнерусской иконописи и даже освоил некоторые простейшие методы расчистки старых икон. В начале 60-х годов на иконы появился некоторый рыночный спрос и Тарон несколько раз ездил в Карелию, где в заброшенных и разрушающихся деревянных церквях можно было раздобыть настоящие шедевры. Воровать иконы в то время не было нужды, этот вид криминальной деятельности расцвел через несколько лет. В начале же 60-х местные жители не знали цены чёрным от времени доскам, предпочитая им яркие лубочные иконки последнего времени. Часто старыми иконами закрывали бочки с огурцами, или использовали их на иные хозяйственные надобности. Из суеверия люди всё-таки не решались выбрасывать иконы из дома. Выпросить такие доски у какой-нибудь давно утратившей веру бабы для Тарона с его наружностью и красноречием не составляло труда. Был и еще один способ получить желаемое - "поновить", т.е. расчистить одну из потемневших икон, и получить какую-нибудь из них в подарок. На деньги от продажи икон можно было просуществовать 2-3 месяца, а то и больше, если бы Тарон не растрачивал деньги на выпивку и травку. Однако, периоды плохого настроения, сопровождаемые выпивкой, иногда продолжались неделями. В такие периоды Тарон пускался во все тяжкие: валандался Бог знает где, общался с алкашами, бомжами, проститутками и тому подобным отребьем, и к ужасу соседей притаскивал эту публику к себе домой. Обо всем этом Лиде с законным негодованием рассказывали соседи Тарона. Амалия Агабековна просто опасалась звонить Тарону, так достали её соседи своими жалобами и упреками. Она ужасно стыдилась своего сына и окончательно потеряла надежду его образумить. Алик Арташесович в разговоры о старшем сыне предпочитал не вступать, храня мрачное молчание. Лида, к тому времени ставшая студенткой Сельскохозяйственной академии, всё чаще задумывалась о будущем, которое было ей суждено с Тароном, и оно представлялось ей всё более и более безрадостным. Тарон постоянно и открыто изменял ей с кем попало. Его краткие "трудовые" опыты перемежались периодами глухого безденежья и безделья. Учиться он не хотел, все уговоры и увещевания воспринимал в штыки. Что с того, что Тарон начал пробовать себя в рисовании, сначала пастелью, а потом масляными красками? Во-первых, какая это профессия - художник? Во-вторых, по понятиям Лиды и родителей Тарона, искусству тоже нужно было где-то учиться. Но как раз этого Тарон и не собирался делать. Заработков это занятие никаких не сулило. Значит, по общему мнению, Тарон занимался какой-то ерундой. Лида, конечно, в большей степени, чем родители, пыталась разделить интересы Тарона. Но в возрасте двадцати с чем-то лет она ощущала себя уже гораздо более взрослым и ответственным, чем Тарон, человеком. Как и любая молодая женщина, она хотела иметь нормальную семью. Очевидно, что Тарон не мог, да и не хотел дать ей желаемое. Какого двадцатилетнего юношу, тем более, такого беспутного, как Тарон, привлекает мысль о браке? Между Лидой и Тароном всё чаще возникали размолвки. Однажды Вика, будучи в гостях у Тарона, поинтересовалась в ответ на какое-то его замечание - что скажет Лида. "А для неё есть плетка", - неожиданно резко ответил Тарон. "Ницше начитался, не иначе", - решила наивная Виктория, воспринявшая его реплику как очередной художественный образ. Много-много лет спустя, уже после смерти Тарона, его младший брат Тигран рассказал Виктории, что через несколько месяцев после описываемого разговора Амалия Агабековна получила письмо от Лиды. Лида написала ей, что, несмотря на то, что безумно любит Тарона, она решила оставить его и попытаться устроить свою жизнь. Через какое-то время Лида вышла замуж за другого человека, о чём потом, по словам Тарона, жалела. Занятия любимым конным спортом не приносили ей утешения. Она тосковала, а детей не могла иметь из-за серьёзной болезни почек. Прожив недолгое время в браке, она разошлась с мужем и умерла молодой. Тарон рассказывал, что, зная о своей неизлечимой болезни, она попросила Тарона принести ей яда, чего он, конечно, не сделал. Всю жизнь Тарон вспоминал Лиду с глубокой грустью и нежностью и много лет хранил её фотографии. Мысль о страдании, причинённом этой безоглядно преданной ему душе, видимо, мучила его. И однажды он по пьянке порвал Лидины фотографии, чтобы они больше не напоминали ему о его юношеской драме. Годы ученичества. Салон Фриде. Школа В.Я. СитниковаДружба с творческой молодежью, родившаяся в результате работы Тарона в ЦРМ и поездки с архитекторами в Белозерск, как и наблюдение за работой реставраторов, давали Тарону возможность постигнуть какие-то азы ремесла художника. Разумеется, помогали и книги по технике рисунка и живописи, добывать которые в то время было нелегко. Однако всего этого было явно недостаточно, чтобы добиться адекватного художественного воплощения жизненных впечатлений, чувств и идей, переполнявших Тарона. Где же мог выучиться мастерству начинающий художник вроде него? Ведь у Тарона не было даже аттестата средней школы. Кроме того, наслушавшись рассказов своих друзей о духовном застое, духе рутины и несвободы в художественных учебных заведениях той поры, с их непременными курсами марксистско-ленинской философии и ориентацией на соцреализм, Тарон и сам не горел желанием туда попасть. Подумать только, ведь даже опыт русского авангарда начала ХХ в., не говоря о западных новациях, был, как бы вычеркнут из истории отечественного искусства. Картины Малевича, Кандинского, Шагала и других виднейших представителей "нового искусства" не изучались, увидеть их было негде и имена этих великих художников упоминались лишь в ругательном смысле. Так что для Тарона был открыт лишь путь художника-самоучки. Тем не менее, он чувствовал потребность в систематическом обучении и искал наставника в ремесле художника. И Бог, видя его нужду, привёл Тарона в школу рисунка В.Я. Ситникова. Вполне возможно, что знакомство Тарона с Ситниковым состоялось благодаря Володе Казьмину, который уже брал у Василия Яковлевича уроки рисунка. Скорее же всего, Тарон познакомился с Ситниковым в так называемом "салоне Фриде" (или у "бабки Фриде", как фамильярно звал её Тарон). Как и многие молодые люди, интересовавшиеся живым поэтическим словом и искавшие в Москве очаги вольномыслия, Тарон бывал на поэтических чтениях у памятника Маяковскому. Его особенно интересовало творчество "смогистов", к которым причислял себя его ближайший друг Валерий Мошкин. Название поэтического кружка или неформальной ассоциации молодых поэтов "СМОГ" расшифровывалось ими по-разному: "Смелость, молодость, глубина" или "Самое молодое общество гениев". Другой близкий знакомый Тарона, Саша Путов, дружил с идейным вождем "смогистов" - Леонидом Губановым, человеком огромного поэтического таланта и трагической судьбы. Впоследствии Александр Путов сделал замечательные иллюстрации к стихам Л. Губанова. Знакомство Тарона с Губановым было, таким образом, предопределено. Это знакомство, однако, не было очень близким, друзьями они не стали - уж слишком различались по темпераменту и складу души два этих человека - но о личности Губанова Тарон всегда отзывался с глубоким уважением и чрезвычайно высоко ценил его творчество. Атмосфера поэтических чтений на Маяковке была для начала 60-х годов достаточно вольной - читать и комментировать стихи могли все желающие, слушатели же были вольны принимать или не принимать выступавших. На Маяковке читали и поэтов Самиздата, и преданных забвению классиков ХХ века - Ахматову Екатерина Сергеевна Фриде была очень приметной фигурой московской богемы 60-х годов. Она еженедельно принимала гостей в коммунальной квартире на ул. Писемского (до революции и ныне - Борисоглебский переулок), где проживала вместе с взрослой дочерью и внуком в двух небольших комнатах. До революции семейство Фриде занимало в том же здании огромную квартиру на весь этаж, но после революции родители Е.С., бывшие тамбовские помещики, потеряли всё своё достояние. Екатерине Сергеевне пришлось отведать все прелести послереволюционного бытия, но она обладала огромным запасом жизнелюбия и стойкости. Чем только Е.С. не занималась, чтобы выжить - даже сапоги ей приходилось шить! Много лет проработав театральным костюмером, она была своим человеком в художественных и артистических кругах Москвы. Несмотря на крайнюю скудость средств и другие сложные обстоятельства, Екатерина Сергеевна не отказывала себе в удовольствии общения с интересными ей людьми, и её "салон" был настоящим осколком дворянской культуры. Еженедельно у нее собирались поэты, художники, коллекционеры и люди других интеллектуальных профессий, пытавшиеся жить полноценной духовной жизнью под пятой нашего государства. За столом с весьма скромным угощением (обычно хозяйки готовили огромное блюдо вкуснейшего капустного салата, а гости приносили, что могли, к чаю) собиралось 15-20 человек. Особо привечали в этом доме молодёжь. Несмотря на дворянское происхождение хозяек (а может, наоборот, благодаря ему), атмосфера встреч была самой непринужденной и демократической. Однако, от гостей, позволявших себе излишние вольности в поведении и, в особенности, пьяные выходки, а также от время от времени возникавших "агентов в штатском", хозяйки умели тактично, но достаточно решительно избавляться. Конечно, масштабы личности и дарования посетителей "салона" были самыми различными. Однако бывали в доме Фриде и ярко-одарённые люди. Одним из таких людей был и художник Василий Яковлевич Ситников, живая легенда тех лет. 
В.Я Ситников стал первым, а зачастую, и единственным учителем для многих впоследствии известных художников, чуравшихся официальных художественных школ. О жизни, творчестве и педагогической деятельности Василия Яковлевича, к сожалению, имеется мало письменных свидетельств. Тем ценнее собранные Заной Плавинской воспоминания учеников и друзей Ситникова, опубликованные ею вместе с ситниковским "трактатом о рисунке и живописи" в письмах, в книге под названием "Василий Ситников. Уроки". Это уникальное издание было выпущено в 1988 г. в издательстве "Агей Томеш-пресс" тиражом всего в 1 тысячу экземпляров, и в настоящее время является раритетом. В своем предисловии к этой интереснейшей книге, её составитель и редактор Зана Плавинская пишет о Ситникове следующее (текст дается в некотором сокращении). ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ СИТНИКОВ родился 19 августа 1915 года в селе Ново-Ракитино Лебедянской волости Елецкого уезда, Тамбовской губернии. До 1975 год - житель Москвы. Уехал в 1975 году в Австрию, затем в Нью-Йорк, где умер 28 ноября 1987 года. Он начал новую жизнь в 60 лет, прожил 72 года, из них - 12 лет эмигрантских. Похоронен в Москве… Личность и судьба В.Я.Ситникова - удивительны. Ситников был необычайно интересным человеком, хотя общаться с ним порою было непросто. А для своих учеников он был просто кладезем всевозможных умений и знаний. Вполне закономерно, что Тарон, как и многие другие, заинтересовался Василием Яковлевичем и вскоре стал его учеником, причём Ситников взялся обучить его рисунку совершенно бескорыстно - ведь с нищего Тарона взять было нечего. В комнате-мастерской Тарона, помимо его первых работ пастелью, изображавших буревестников над морем, яркие полуфантастические пейзажи и другие романтические сюжеты, появились рисунки-штудии, выполненные на ватмане сухой кистью. Эти были обычные для учеников Ситникова сюжеты: шары, обнажённые женщины с мощными бёдрами и едва обозначенной головой со светлым пятном вместо лица. Процесс обучения рисунку и живописи по методу Ситникова прекрасно описан в цитированной выше книге. В.Я. был замечательным учителем. Многие из его учеников перенимали у него в той или иной степени его своеобразную живописную манеру и заимствовали некоторые сюжеты. Тарон тоже взял у Ситникова всё, что мог. Именно, все, что мог и хотел, потому что душа его стремилась выразить многое, выходящее за пределы и школы Ситникова, и его мировоззрения. В.Я. прожил трудную жизнь и был мудрым человеком. Однако он ставил перед собой совсем иные, чем Тарон, художественные задачи, и мир его иронической живописи "а ля рюс" был Тарону чужд. Тарон был представителем другого народа, обладал совершенно иным видением мира и темпераментом. Кроме того, он был молод и слишком серьезно относился к своему предназначению, чтобы вносить в свое искусство элементы игры. Василий Яковлевич, как совершенно взрослый и умудренный жизнью человеком, больше всего ценил свою независимость - как духовную, так и материальную. Он не только наслаждался процессом творчества, но и зарабатывал им на жизнь. Ради материальной свободы Ситников был готов не только максимально ограничивать свои личные потребности, но, при всей самобытности своего дара, учитывать вкусы своих зрителей и покупателей. Тарон же не умел ни первого, ни второго. Он отнюдь не был человеком "аполлинического" склада, стремящимся к равновесию, ясности и самодисциплине. Наоборот, в нём всегда преобладало "дионисийское", стихийное, необузданное начало. Именно в этой особенности его личности коренилась причина его конфликта с Лидой и родителями. Предлагаемую ими модель умеренного, "нормального" существования Тарон категорически отвергал. Напротив, его привлекало все, что будило в нём страсти и способствовало максимальному, ничем не ограниченному самовыражению. Подобно Артюру Рембо, он мог бы сделать своим девизом: "Всё увидеть, всё испытать, всё исчерпать, всё исследовать, всё сказать". Тарон со свойственным ему напором учился живописи и рисунку у Ситникова, но подсознательно ждал и хотел некоего толчка извне, такого судьбоносного поворота жизни, который пробудил бы его глубинное "я" и высвободил переполнявшую его энергию. Встреча с Аллой. Женитьба и поездка в Карелию."Истинная любовь не нуждается ни в симпатии, ни в уважении, ни в дружбе; она живёт желанием и питается обманом." Анатоль Франс "Жизнь в раю" Тарон верил, что великая любовь его жизни - впереди. И эта любовь пришла. 1963 год застал Тарона в Третьяковской галерее, куда он поступил уборщиком. Рано утром он не без удовольствия надраивал мраморную лестницу и полы в вестибюле, а днем был волен заниматься, чем угодно. В свободное время он посещал мастерские галереи, наблюдая за работой реставраторов и других специалистов, или бродил по залам, разглядывая картины. Однажды утром в толпе сотрудников галереи, спешивших на работу, он заметил стройную худощавую девушку с прямыми русыми волосами. Свое первое впечатление от этой встречи Тарон описывал так: "В ритме её тела было что-то такое, что я сразу подумал: эта баба станет моей женой и родит мне ребёнка". Вскоре они познакомились. Алла Сапрыкина училась на вечернем отделении искусствоведческого факультета МГУ и занимала в галерее какую-то незначительную должность, чтобы быть поближе к искусству. Она была ровесницей Тарона и Овном по знаку Зодиака. Учиться на дневном отделении Алла не могла, поскольку её семья, состоявшая из матери и старшей сестры, жила очень бедно. Мать Аллы, учительница по профессии, во время войны не смогла уехать в эвакуацию из-за болезни младшей дочери. Из-за этого она потеряла работу, а впоследствии - и право на нормальную пенсию. Рано лишившись кормильца (отец Аллы был намного старше матери), семья всегда еле сводила концы с концами. По словам Аллы, её мать была "идеалисткой и совершенно бескорыстным человеком", а эти качества нередко оборачиваются на практике полной неспособностью постоять за себя. В женской обители Сапрыкиных придерживались строгих, почти пуританских моральных стандартов, культивировали скрупулезную честность и стерильную чистоплотность, верили в идеалы революции, "братство и равенство". По собственному утверждению Аллы, в юности она не представляла себе иной смерти, кроме как "смерть под знамёнами, на баррикадах". Реальная жизнь, весьма далекая от этих романтических идей, не сулила семье Сапрыкиных маломальского благополучия. Некоторым подспорьем для их скудного бюджета являлся небольшой садовый участок, где Сапрыкины выращивали цветы на продажу. Но много ли можно наторговать, стесняясь этого "низкого, недостойного интеллигентного человека занятия"? Алла обладала хорошей фигурой. Её удлиненное лицо с серыми глазами, отливавшими на солнце пронзительной голубизной, и большим ртом, хоть и не отвечало классическим канонам красоты, было по-своему интересно и выразительно. В нём ощущался ум и характер. Лицо такого типа было у Вирджинии Вульф 
Конечно, далеко не каждый мужчина был способен оценить своеобразие Аллиной внешности, и мысль о собственной некрасивости, вероятно, досаждала ей в юности. К тому же, она всегда должна была довольствоваться самой простой, дешёвой одеждой, что не добавляет женщине уверенности в себе. Характер Аллы представлял собой причудливую смесь черт. Она была способна на великодушие и самоотверженность и была рождена для сильных чувств. Но нищее детство и необходимость экономить на всём развили в ней гипертрофированную щепетильность в мелочах. У неё был ярко выраженный "комплекс бедняка" - неспособность общаться на равных с людьми более высокого материального достатка или стоящими выше на социальной лестнице. Таких людей Алла сторонилась, тщательно скрывая от других и самой себя нехорошее чувство зависти. Приниженность и даже некоторое самоуничижение соседствовали в её душе с желанием утвердиться в жизни и даже возвыситься над другими людьми, приобретя над ними хоть какую-нибудь власть. Ведь в семье ей приходилось терпеть тиранию капризной старшей сестры, а житейские обстоятельства вынуждали её существовать в беднейшем и наиболее зависимом слое общества. Она была болезненно застенчива и пуглива, и в то же время - высокомерна и невероятно горда. Конечно, поступление на факультет с большим конкурсом в самом престижном вузе страны эта девушка считала огромным своим достижением, как и работу в "святая святых" русского искусства, в Третьяковской галерее. Поначалу Алла не приняла всерьёз интерес, проявленный к ней красивым молодым армянином. Всем известно как женолюбивы восточные мужчины. К тому же, вполне возможно, что Алла ко времени встречи с Тароном уже успела испытать какое-то любовное разочарование, усугублявшее её недоверие к мужчинам… Но и оставаться вполне равнодушной к ухаживанию такой неординарной личности, как Тарон, она не могла. Уже после смерти Тарона она рассказывала: "Я никогда не бегала за Тароном, не навязывалась ему. Наоборот, это он меня преследовал". Он же описывал момент "кристаллизации" своего чувства так: "Я сразу попробовал за ней приударить, но она от меня отмахнулась. Ну, я и решил - не хочешь, и не надо. Тогда она стала, как бы ненароком заглядывать в то помещение, где я был. Прошла раз, другой, третий, нервно так, и все посматривает на меня. Мне стало её жаль - тут-то я и пропал". Невозможно, конечно, описать зарождение взаимной любви между людьми - тайна сия великая есть. Так или иначе, спустя непродолжительное время двое молодых людей были уже по уши влюблены друг в друга. Не чуя под собою ног, они бродили по улочкам Замоскворечья, любовались мостами над Яузой и Москва-рекой, и всесильный бог любви неотвратимо приближал миг их соединения. 
Оба они были романтиками и максималистами, но Алла, в отличие от Тарона, прошедшего огонь и воду молодого мужчины, исповедовала безупречную нравственную чистоту. "Греховный опыт" Тарона страшил и отталкивал Аллу. Одновременно с этим, будучи женщиной до мозга костей, Алла инстинктивно чувствовала, что именно её пугливость, настороженность и требовательность в отношении Тарона распаляют его и дают ей власть над его сердцем. Много лет спустя Алла рассказывала: "Я хотела высоких, идеальных отношений с людьми вообще, и к Тарону относилась так же. Я требовала от него слишком многого. Я знала, что уже в том возрасте, когда мы встретились, в его жизни было много грязи, и не принимала этого. Я не верила в силу его чувств, да и не любила его, пожалуй…" "Он просто вынудил меня выйти за него замуж, сказав, что убьёт меня, если этого не случится. Но я чувствовала, что этот брак не принесёт мне ничего хорошего, знала, что вокруг него всегда будут толпиться другие женщины, и не хотела себе такой участи. В первый раз я просто не пришла в ЗАГС, и регистрация брака не состоялась. Потом я узнала, что он заболел нехорошей болезнью, и это меня возмутило. - Как ты смел ко мне приблизиться после этого? - кричала я ему". Сопротивление Аллы лишь подливало масла в огонь страсти Тарона. А она боялась уронить себя, оказаться в эмоциональной зависимости от него. Как о героине гамсуновского "Пана", об Алле можно было сказать: "Холодна? О, не беспокойтесь! Горяча? Сущий лёд". Она то приближала к себе Тарона, то осаживала его едкими критическими замечаниями, на что была мастерица. "Вот уж кто умел укрощать жеребцов, это Алла. Она знала все мои болевые точки", - говорил впоследствии Тарон. Алла нисколько не стеснялась причинять ему боль, возможно, даже получая от этого удовольствие. Тарон сходил по Алле с ума и рассказывал об этом своему новому другу, студенту-историку Толе Мастюгину. С Анатолием Мастюгиным Тарон познакомился, уйдя из Третьяковской галереи, и поступив на работу, снова уборщиком, в Государственный исторический музей. Толе Мастюгину предстояло впоследствии сыграть очень важную роль в жизни Тарона, о чём будет речь впереди. К этому скромному, мягкому, исключительно доброму и деликатному человеку обращал Тарон свои исповеди в переломный для него период жизни. Толя был в курсе всех перипетий непростого романа Аллы и Тарона и умел вовремя сказанным спокойным словом охладить бешеный пыл своего экзальтированного друга. Здесь нужно отметить, что как бы сильно не был занят Тарон своими любовными переживаниями, он, по воспоминаниям Мастюгина, проводил очень много времени в мастерских Исторического музея, изучая технологию работы тамошних художников и реставраторов. 
После нескольких месяцев взаимного притяжения-отталкивания Алла была готова, наконец, уступить натиску Тарона. Как она объясняла впоследствии, ей хотелось, наконец, отделаться от своего слишком настойчивого поклонника (чему, конечно, трудно поверить). Но тут уж заартачился Тарон. Ему нужно было, чтобы всё было по-настоящему: свадьба, и непорочная невеста на брачном ложе, усыпанном цветами. О своем намерении жениться на Алле Тарон оповестил родителей. По свидетельству его брата, Тиграна, первым, что сказал отец в ответ на признание Тарона, были слова: "А ты, что, можешь содержать семью?" "Но ведь это любовь! Я люблю Аллу!", горячо возразил Тарон. "Аа, любовь… Ну, тогда закрой глаза и женись", скептически ответил Алик Арташесович. Тем не менее, свадьба была сыграна по всем правилам, и первое время молодожены были безоблачно счастливы. Радовались и родители Тарона, надеясь, что его жизнь, наконец, войдёт в нормальную колею. Алла рассказывала о начале их совместной жизни: "В Тароне тоже были и чистота, и романтизм, и бескорыстие - всё это было. Вообще, когда у него были хорошие периоды, у нас с ним было поразительно много общего. Мы любили одни и те же фильмы, читали одни и те же книги, даже песни любили одни и те же - военные. В нём всегда были порывы к высокому, и вот на этом уровне мы с ним и встречались". 
Вместо свадебного путешествия молодые отправились летом в Карелию, добывать иконы. С дороги Тарон послал своей приятельнице Виктории коротенькое письмо, скорее записку, в которой был забавный рисунок, изображавший двух весёлых человечков, и слова: "Дела идут хорошо. Женой доволен". И правда, Алла была энергичным и стойким товарищем в походе. Когда же у Тарона возник опасный конфликт с кем-то в пути, она, не колеблясь ни секунды, схватила нож и встала с ним рядом. Об этом эпизоде Тарон всегда вспоминал с восхищением и гордостью. В свою очередь, Тарон, с его удивительным даром поворачивать все явления неожиданной стороной и умением радоваться самым простым вещам, помог Алле увидеть и почувствовать красоту русского Севера. Блуждание по лесным дорогам, заболоченным лесам и забытым Богом деревушкам принесло весомые плоды. Они привезли немало икон, взятых из заброшенных деревянных церквей. Некоторые из этих икон были по-настоящему ценными. На вырученные за них деньги молодая семья могла бы сносно просуществовать несколько месяцев, что было особенно важно ввиду Аллиной беременности. И тут Алла впервые столкнулась с теми сторонами личности Тарона, которых она не без основания опасалась. Подводные камни семейной жизни."Все прочие чувства: сострадание, нежность, и так далее, существуют только на периферии и проходят по ведомствам привычки и общественных отношений. Но сама она - суровая, безжалостная Афродита - язычница. Не разум наш, не инстинкты, не это ей нужно - но самое наше нутро". Л.Д. Даррелл "Александрийский квартет" 
Любовь - любовью, но скорая перспектива появления ребенка Тарон не очень обрадовала. Позднее он признавался, что у него просто не повернулся язык - предложить Алле избавиться от него. Алла, вполне естественно, ожидала заботливого внимания к себе. Однако, уже вскоре после возвращения из Карелии, её ожидало сильное разочарование. Летние каникулы и первые восторги взаимной страсти остались позади, наступили будни. Алле нужно пора было возвращаться к своей учебе в МГУ и работе в Третьяковке, а Тарону - приискивать какой-нибудь заработок. Ведь они были так бедны, что по рассказам Тарона, не могли в прохладную погоду выйти из дома вместе, так как у них был один плащ на двоих. И тут оказалось, что в сознании Тарона на первом месте стояли его собственные нужды, а вовсе не потребности жены и ребёнка. Искать работу Тарон не спешил, а вырученные за иконы деньги тратил щедро, нисколько не заботясь о будущем, да и в выпивке себе не отказывал. По-прежнему, не взирая на время суток, к нему являлись его друзья и приятели, в частности, полубезумный и всегда подвыпивший Мошкин. Предполагалось, видимо, что Алла будет участвовать в разговорах за полночь на правах товарища и подмастерья, вроде Славки Боцмана, или подруги-собутыльницы, вроде Нели, несчастной жены Мошкина… Никто не собирался принимать во внимание ни состояние Аллы, ни её усталость после напряженного дня работы и учёбы. Оправданием для подобного невнимания, по мнению Тарона, служили его занятия живописью. Алла, уже обладавшая некоторыми познаниями в искусстве, не скрывала своего скептического отношения к живописным опытам мужа. Тарон ещё мало что умел, как живописец, хотя и претендовал на многое. "Напиши мне "Алые паруса"", - попросила его Алла. И он взялся за картину маслом, размером примерно 70х110 см. К картине было сделано несколько эскизов (один из них, набросок гуашью на бумаге, сохранился в собрании Музея РГГУ). Картина простояла на самодельном мольберте в углу комнаты несколько месяцев, но Тарон почему-то никак не мог её закончить. То ли дело было в его неопытности, то ли романтическая поэма о любви, сочиненная Александром Грином 
В начале 60-х А. Грина издавали мало, и у многих сложилось ложное представление о нём, как о пафосном романтике и чуть ли не сказочнике. Больше всего был опошлен именно образ "алых парусов". Что только не называли "Алыми парусами": молодёжные кафе, комсомольские конкурсы, альманахи молодых поэтов. Тарон любил Грина, но, безусловно, ощущал и скрытую от большинства читателей трагическую подоплёку его творчества. Возможно, гораздо больше, чем феерия "Алые паруса", внутреннему видению Тарона соответствовало бы другое произведение писателя, в то время ещё не опубликованное. Герой гриновского рассказа (тоже художник, кстати), вознамерившись вести сугубо "правильный и гигиенический" образ жизни, внезапно погибает по какой-то пустячной причине, чуть ли не выпив сырой воды. Перед смертью он создает две картины. На одной из них изображена со спины прекрасная молодая женщина. На другой картине эта женщина, обернувшись, смотрит на зрителя - и зритель видит её лицо, жестокое, порочное и обольстительное. Эти картины можно рассматривать, и как гриновскую метафору искусства (оно необоримо притягательно, но часто сулит гибель своему создателю), и как символическое изображение самой жизни, со всеми её ужасами и соблазнами - той жизни, что неудержимо влекла Тарона. Алла, по-женски тяготевшая к гармонии и покою, не хотела и не могла разделять опасные склонности своего мужа. К тому же она получила пуританское воспитание, проводившее чёткую границу между "чёрным" и "белым", между добром и злом. Да и искусствоведению она училась на примере классических произведений, отобранных с позиций соцреализма, закрывавшего глаза на существование в жизни "грязи и уродства". 
Легендарный парусник - этот образ возвышенной любви, который Тарон пытался изобразить на своей картине - не мог вытеснить из его сознания ни память о грозной и безжалостной к человеку морской стихии, ни мысли о трагизме бытия вообще. Возможно, именно это противоречие и мешало Тарону завершить картину для Аллы. Позднее, тем не менее, он неоднократно возвращался в своем творчестве к морской тематике. Ярким примером этого служит написанный уже в 80-е годы триптих: "Парусник", "Рыбы", "Птица". Безумный корабль с растрёпанными парусами, мчащийся неведомо куда; стремительные хищные рыбы; распятая на фоне закатного неба морская птица - как далеки эти насыщенные драматизмом образы от красивой сказки А.C. Грина! С попыток изобразить буревестника или альбатроса, упивающегося свободой в противоборстве с морской стихией, начинал Тарон свои занятия живописью в юности, и эта тема долго занимала его воображение. Что же касается рыб, то их он рисовал всю свою жизнь. Для него рыбы были и символом жизненной борьбы и символом жертвы, и напоминанием о Христе. 
Зимой 1964-1965 года Тарон всё ещё занимался рисованием "сухой кистью" под руководством В.Я. Ситникова, но и здесь дело постепенно заходило в тупик. Более или менее овладев светотенью, Тарон заскучал. Его не увлекали сюжеты, предлагаемые Ситниковым: монастыри, жанровые сценки, стилизованные русские пейзажи. Василий Яковлевич гордился тем, что мог кого угодно научить "рисовать голых баб сапожной щеткой". Что ж, Тарон решил разнообразия ради нарисовать "ню" с натуры. Нанять натурщицу - не было денег. Алле, с её растущим животом, позировать было тяжело и неохота. Тогда Тарон обратился с просьбой попозировать к своей приятельнице Виктории, и та, войдя в его положение, согласилась. Конечно, ей пришлось преодолеть некоторую неловкость, но ведь приходилось же ей обнажаться перед докторами. А художники - что-то вроде докторов. К тому же, Виктория выросла в семье, отличавшейся большой терпимостью в вопросах морали. Красавица - бабушка Виктории всегда проповедовала свободу чувств, хотя и была вполне целомудренной женщиной. А дед Виктории, архитектор Улинич, был и вовсе человеком без предрассудков. И он сам, и его многочисленные друзья из мира искусства фотографировались и позировали обнажёнными, и ничего не видели в этом зазорного. Чувства Аллы, однако, были задеты. Во время сеанса рисования она допоздна бродила по стылым улицам, и вернулась домой, совсем окоченев от холода. А несколько недель спустя Виктория услышала по телефону неожиданный для неё вопрос: "Когда вы оставите в покое моего мужа?" Виктория остолбенела от удивления. Она видела Аллу всего пару раз, с трудом узнала её голос, и даже не поняла сначала, о ком идет речь - ей и в голову не приходило, что её вполне невинные отношения с Тароном могут у кого-то вызвать ревность. Ведь Тарон даже больше дружил не с нею, а с её бабушкой и дедом. Наличие приятельниц, подобных Виктории, не радовало Аллу. Диковатая по натуре, она не очень умела дружить, и друзья Тарона, тем более подруги, претендовавшие на его время и внимание, скорее вызывали в ней раздражение, чем интерес. Но ревность была ещё наименьшим злом в её семейной жизни. Основной проблемой были, конечно, внутренние состояния самого Тарона. Как уже неоднократно было сказано, Тарон отличался жадным любопытством к жизни во всем её многообразии и пестроте. Он знал, что на свете нет ни абсолютно белого, ни абсолютно чёрного, а стерильная чистота встречается только в автоклаве. В реальной жизни всё перемешано, в ней можно встретить жестокосердого праведника и способного на великодушие бандита, честного вора и самоотверженную в любви проститутку. Как раз такие неожиданные психологические изломы и были любопытны Тарону. Бродяги и мошенники, пьяницы и голодранцы, выходцы из тюрем и дурдомов, бесправные работяги и просто обездоленные и брошенные на дно жизни люди занимали его воображение гораздо сильнее, чем добродетельные и сытые обыватели. Его интересовали неприкрытые страсти и вожделения, буйная радость и смертная тоска так называемых "отбросов общества", и вообще, все ситуации, предельно обнажающие человеческую природу. Он любил жизнь такою, какая она есть: грязную, животную, грешную; ту невыдуманную жизнь, в которой высокие человеческие проявления являются не нормой и правилом, а скорее, редким исключением. В подобном восприятии жизни Тарона утверждал и его собственный, во многом отрицательный, социальный опыт, и исторический опыт нашей страны, известной во всем мире, как "империя зла"… Уже в самых первых, юношеских рисунках Тарона, внешний мир являл себя не в виде хорошеньких женских лиц и живописных пейзажей, а в виде сторожевых вышек, колючей проволоки, городских трущоб с выделенными надписями "ГосСТРАХ", и т.п. Разглядывая его первые рисунки, Виктория, к тому времени уже хорошо осведомленная о ГУЛАГе и репрессиях 30-х годов, но ничего не знавшая о судьбе семьи Тарона, недоумевала: откуда этот мало читавший юноша знал о столь мрачных сторонах нашей действительности? Наивная интеллигентная девочка, черпавшая знания из книг, не подозревала, что человек с обостренной чувствительностью, вроде Тарона, мог непосредственно ощущать всепроникающий дух ГУЛАГа. 
Кроме того, по семье Тарона советский режим прошелся железным катком. Родной отец Амалии Агабековны, был расстрелян как дашнак, и ей пришлось расти в крайней бедности, в доме жадного и жестокосердного отчима. Алик Арташесович, родившийся в весьма состоятельной семье, пострадал от коммунистического режима ещё больше. Его отец, Арташес Гарибян, был владельцем винно-коньячного завода в одном из селений Араратской долины и главой огромной семьи, а дед - одним из видных деятелей дашнакского движения. Несмотря на то, что Арташес Гарибян вел достаточно скромный образ жизни и щедро тратил деньги на строительство больниц и школ, такая семья не могла уцелеть после прихода в Армению советской власти. Одиннадцатилетний Алик был свидетелем прихода в дом "представителей революционного народа" и кровавой расправы со своей семьей. Ему чудом удалось спастись лишь благодаря отцу, вытолкнувшему его в окно. Большинство близких родственников Алика Арташесовича пропало в недрах ГУЛАГа. Многие подробности семейной истории до поры до времени скрывались от Тарона его родителями, но он не мог не чувствовать ожесточенность матери и непреходящую глухую тоску отца. Мало вероятно, что ранние рисунки Тарона с гулаговскими мотивами сохранились. Некоторое представление о тематике и эстетике этих рисунков даёт более поздняя работа, рисунок чёрным фломастером, где смыслообразующим центром является тюремная вышка. Парафразой ранних рисунков Тарона на социальные темы является и другая картина конца 70-х или начала 80-х годов, нарисованная чёрным фломастером на белом холсте. На ней изображены замученные строители "светлого коммунистического завтра"; город, украшенный коммунистическими лозунгами, и обитатели этого неуютного человеческого муравейника за различными занятиями. Таким образом, социально-политические темы занимали Тарона едва ли не больше, чем возвышенно-романтические или фольклорно-декоративные мотивы. 
Из всех знакомых молодых художников Тарону в этот период был, скорее всего, наиболее интересен Саша Путов. К моменту знакомства с Тароном Саша прошёл школу МАРХИ и был уже умелым рисовальщиком. История становления этого талантливого художника с большой любовью и уважением описана его близким другом Константином Семёновым в книге "Начало художника". Отношения Тарона с Сашей Путовым, несмотря на взаимную заинтересованность, складывались отнюдь не идиллически. Александр Путов, впоследствии ставший глубоко верующим человеком, уже в те далекие годы стремился к единению с людьми и искал положительные стимулы для своего духовного развития. Что же касается Тарона, то он укреплял свой дух, противопоставляя свою идеологию чужой, как бы отталкиваясь "от противного". Пафос неприятия, вражды и даже ненависти, как оказалось впоследствии, являлся для Тарона сильнейшим стимулом к творчеству. Он искренне считал себя носителем некоей истины, которую и пытался со свойственным ему темпераментом внедрить в сознание своих оппонентов… При всех идейных разногласиях, Тарон испытывал очень большой интерес к Сашиному творчеству и вольно или невольно перекликался с ним в своих работах. 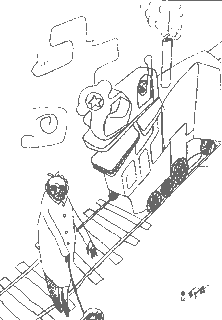
Оба молодых художника размышляли над социальным устройством общества. В 1965-66 гг. Саша Путов уже создавал сложные композиции, центром которых была личность, страдающая от духовного гнёта. Многие Сашины рисунки, изображали покалеченные системой души ("глухие души", "хромые души", "слепые души" как в "Драконе" Е. Шварца) Ясно было одно - с В.Я. Ситниковым, при всём к нему почтении, Тарону было больше не по пути. Ему надоело рисовать шары и сказочные церквушки. Даже злосчастной "ню", для которой позировала Виктория, он, в конце концов, приделал физиономию бесстыжей разгульной бабы, лишь бы этот рисунок отличался от творений других учеников В.Я. Поиск своего пути в искусстве давался Тарону нелегко. Он мучился сам, и поневоле мучил Аллу. "Нравственная неразборчивость" Тарона, и без того безмерно раздражавшая Аллу, имела и ещё одно неприемлемое для неё проявление. Состояние неудовлетворенности, в котором пребывал Тарон, время от времени переходило в депрессию, в борьбе с которой он прибегал к уже знакомому средству - алкоголю. Поздняя осень и начало зимы с коротким световым днем действовали на Тарона угнетающе. Душевное напряжение, требовавшее разрядки, толкало Тарона в общество разных сомнительных личностей, случайных собутыников, людей "с улицы". Уже к Новому 1965 году от добытых в Карелии икон, часть которых Алла законно считала своей личной долей, не осталось ничего. Не было и денег. Тарон заявлял: "Я должен стать художником!" Алла же требовала, чтобы он нашёл какой-нибудь заработок ("А нам с ребёнком нужно, чтобы ты стал техником!"). В ответ Тарон предложил ей самой бросить учебу и найти лучше оплачиваемую работу. "Важнее, чтобы я стал художником, чем ты - искусствоведом!" - настаивал он. Услышать такое из уст человека, который ещё несколько месяцев назад валялся у неё в ногах, умоляя взять его на роль "чёрного раба" - было непереносимо для самолюбия Аллы. Как могло ему прийти в голову, что она ради каких-то его химер откажется от права учиться в университете, добытого ценой больших усилий?! Со свойственной ей пылкостью, Алла не считала нужным скрывать разочарование и обиду. Она гневно упрекала Тарона в его непригодности на роль мужа и отца. "Он рассуждал и вёл себя как мальчик. Как это было противно!", говорила Алла впоследствии. Желая уязвить самолюбие Тарона, она не скупилась и на едкие замечания по поводу его вполне заурядных сексуальных возможностей. Однажды за обедом Алла в весьма резкой форме пригрозила Тарону Красноярским краем, куда в то время отправляли на исправление так называемых "тунеядцев". В ответ взбешённый Тарон воткнул ей в бедро кончик столового ножа. Два этих темпераментных и горячих человека не хотели идти ни на какие взаимные уступки и оказались совершенно не способны пожалеть друг друга. Родители Тарона, разумеется, горевали по поводу усиливающегося разлада в семье сына и сочувствовали Алле, но помочь не могли. Аллина мать, хоть и хорошо относилась к Тарону поначалу, влияния на него никакого не имела, а сестра Людмила просто терпеть не могла Тарона и считала Аллин брак с ним ошибкой. Бурные ссоры между супругами, во время которых, по рассказам самого Тарона, беременная Алла "рыбкой летала по комнате", перемежались пылкими объятьями и любовными признаньями, но ситуация всё более накалялась. С самого начала совместной жизни Алла чувствовала себя не слишком уютно в доме мужа. Ей не нравился быт коммунальной квартиры, она не слишком ладила с соседями. Она была очень брезглива (Тарон рассказывал, что она бралась за ручку двери в его комнату бумажкой или носовым платком). Ее злило мотовство, вернее, нерасчетливость мужа при постоянной нехватке денег. Со временем ко всем этим раздражающим факторам добавилось постоянное недосыпание, частое присутствие чужих и нередко нетрезвых людей в крошечной комнате, и, наконец, рукоприкладство Тарона. Оправдывались самые худшие предсвадебные опасения Аллы. В ней нарастал протест, который уже не могли уравновесить никакие любовные радости. Вот как впоследствии Алла объясняла отсутствие внешнего сходства между Тароном и дочерью: "Я так его ненавидела, когда была беременна, что дочь и не могла родиться похожей на него!" Тарон написал несколько портретов Аллы. Один из ранних портретов, написанный маслом на доске и запечатлевший Аллу в состоянии ненависти и гнева, хранится в коллекции Музея РГГУ. Устав от постоянных распрей с женой, Тарон предложил Алле после рождения ребенка пожить в доме матери. Легко представить боль и отчаяние Аллы, вынужденной принять это унизительное для неё предложение. Весной 1965 года Тарон отвез Аллу в роддом. Дочь по просьбе Тарона назвали Валерией в честь Мошкина. Алла с ребенком вернулась к себе домой. На этом её совместная жизнь с Тароном закончилась. Разрыв с Аллой. Стихи и рисунки 1965 года."Чувство оскорбленного самолюбия, боль оставленности открываются нам как неведомые земли, и знакомство с ними, как бы ни было болезненно, преподносит художнику бесценный урок". Марсель Пруст "Обретённое время" 
Конечно, всё сказанное выше о Тароне и Алле - лишь попытка воссоздать драматическую историю встречи и расставания двух незаурядных людей по их собственным отрывочным высказываниям. Всю правду об их отношениях знали только они сами. Спустя много лет после описываемых событий можно с уверенностью утверждать лишь одно: встреча и разлука Тарона и Аллы и их непреходящая любовь-ненависть сыграли определяющую роль в судьбе обоих. В пережитой ими трагедии оба они были и виноваты и невиновны. По молодости и страстности никто из них не мог и не хотел пожертвовать чем-то своим в пользу другого. И в самом деле - кто вправе ожидать или требовать от молодой матери, чтобы она ставила интересы мужа выше благополучия своего ребёнка? Во второй половине 20-го века такое поведение было уже не принято. В свою очередь, творческий человек, охваченный маниакальной жаждой самовыражения, зачастую пренебрегает интересами близких, вызывая осуждение окружающих своим эгоизмом. Но в отличие от обывателей, люди, сами приговоренные к творчеству и обреченные на те же муки, вряд ли бросили бы камень в Тарона. "Творчество… истинное творчество требует невероятного, противоестественного, ненормального интеллектуального напряжения… Я врач, и могу судить… Это почти самоубийство. Когда человек на такое напряжение не способен, он начинает заниматься шарлатанством…", говорил один из "проклятых" художников 20-го века, замечательный французский писатель Л.Ф. Селин, вышедший, как и Тарон, из низов, и испытавший всю тяжесть общественного непризнания и осуждения. Жизненная трагедия Тарона была обусловлена тем, что он никогда не был шарлатаном от искусства. Напротив, он рассматривал искусство как свою, едва ли не священную, миссию, и всецело отдавался своему призванию. Одержимый желанием стать художником, он не мыслил себя ни в каком ином качестве. Алла, женщина с высокой самооценкой и сильной энергетикой, хотела властвовать над любящим её мужчиной, и по её собственным словам, в начале их совместной жизни ей "удавалось управлять Тароном". Но, скорее всего, она принимала желаемое за действительное. Вместо того чтобы подчиниться её воле, Тарон фактически вытолкнул Аллу из дома. При этом он, видимо, был уверен в том, что со временем она к нему возвратится. "Возьми ребенка, и пойдем со мною по дорогам!", призывал он её. Но время шло и Алла не делала никаких попыток вернуться в ненавистную ей комнату в Подсосенском переулке. Полыхая гневом, она появилась там лишь однажды вместе с сестрой, чтобы забрать какие-то свои вещи. Спустя несколько месяцев после рождения дочери до сознания Тарона, наконец, дошла мысль о том, что Алла покинула его НАВСЕГДА. Эта мысль повергла Тарона в отчаяние и привела его на грань безумия. Он и до того всегда ощущал враждебность мира к себе, но теперь этот мир в лице "предательницы Аллы" решил его добить - такой вывод сделал Тарон из постигшей его сердечной катастрофы. Несколько летних и осенних месяцев 1965 года прошли в пьяном угаре. Как и на что существовал Тарон, было загадкой. Работать он не мог. Он пропил и растерял почти всю свою одежду. Его знакомые из сострадания отдавали ему всякое старьё. Одетый в висевшее мешком коричневое пальто с чужого плеча с какими-то нелепыми фалдами, обутый в тяжеленные рабочие "коцы" ценою в пять рублей, Тарон слонялся из двора во двор, из переулка в переулок, вымогая и выклянчивая деньги на выпивку. Окрестности дома 21 оглашались громким ревом раненного зверя: "Предатели жизни! Убийцы Христа! Подлые твари - всех вас ждет возмездие!" Прохожие шарахались от него в стороны, как от прокаженного. Временами Тарон впадал в другую крайность. Он падал на колени прямо в уличную грязь и каялся: "Да, я виновен! Люди заразили меня своими болезнями! Аллино предательство - это кара мне за грехи людей!" И сразу же после покаянной речи, с налившимися кровью глазами, он кричал: "Эта сука-предательница, моя жена, заслуживает смерти!" и тому подобное. Многие люди были свидетелями этих поистине душераздирающих сцен. Периоды бешеной активности, когда Тарона носил по Москве какой-то безумный смерч, сменялись периодами полной апатии, когда Тарон впадал в прострацию и по нескольку дней валялся на своей дощатой койке почти без движенья, уставясь в потолок и думая о смерти. В числе прочих знакомых и соседей по Подсосенскому переулку, все эти состояния Тарона приходилось наблюдать и Виктории. Она плохо представляла себе, что произошло между Тароном и его женой на самом деле. Из его слов (а говорил он только об Алле, предательстве, мщении и смерти) выходило, что его жестоко, коварно обманули в лучших ожиданиях, что он, видевший в союзе с Аллой возможность примирения с жизнью, был предан и покинут ею в тяжелый час. Слушая его полубредовые монологи, неискушенная в жизни Виктория сочувствовала ему всей душой. В её семье к искусству относились благоговейно, оно считалось высшим проявлением человеческого духа. Как это было возможно - не поддержать талантливого человека в начале его пути!? А в том, что Тарон очень талантлив, Виктория была убеждена. Основанием для этого служили вовсе не живописные опыты Тарона (к изобразительному искусству Виктория была довольно равнодушна), а образный строй его речи. Как и в первые дни их знакомства, слушая Тарона, Виктория думала про себя: "У него огромный поэтический дар, он поэт!" И скоро ей пришлось убедиться в своей правоте. Мало того, что Тарон невыносимо страдал, он ещё и голодал. Как всякий несчастный, голодный зверь, он вызывал жалость, желание помочь, накормить. И Виктория стала приносить Тарону время от времени что-нибудь съестное из дома - ведь своих доходов у неё не было. Она даже не получала стипендию в своем Энергетическом институте, так как считалась студенткой из обеспеченной семьи. В один из таких приходов с парой оставленных от обеда бифштексов в кармане, она увидела в руках у Тарона какую-то тетрадь. "Вот я тут написал кое-что, прочти, если хочешь!", сказал Тарон. И она увидела первые записанные Тароном стихотворные строчки: "Лететь стремглав, разбиться - незримый удел птицы И дальше, дальше - косыми строчками почти без знаков препинания, крупными, порознь стоящими буквами, почти без исправлений, была исписана вся тетрадь. Было ясно, что эти стихи появились спонтанно, будто прорвало какую-то плотину, и слова лились на бумагу непрерывным потоком, пока не иссякло вызвавшее их чувство. У Виктории перехватило горло от восхищения и боли. Она восхищалась словесным даром Тарона, силой и неожиданностью его поэтических образов, и ей было больно оттого, что он был одинок и страдал, а она его любила. Осенью и зимой 1965 года Тарон написал много стихов. Часто он исписывал за один присест большой блокнот (обычно это был школьный альбом для рисования). Ему нужно было выговорить свое страдание, облегчить свою боль. Поэтическая речь, в отличие от рисования дававшаяся Тарону без напряжения, спасала его от безумия и влечения к смерти. Слова текли прямо из его сердца, как горячая лава. Его речь была сбивчивой, сохраняя прерывистый ритм его дыхания. Это были, собственно, ещё не стихи, а зафиксированный на бумаге полубезумный поток сознания; горячечный бред, стоны одиночества, проклятья и крики отчаяния. В этих первых стихах образы наезжали друг на друга, концы строк повисали без завершения. Часто Тарон забывал или вовсе не думал о согласовании слов в предложении - ведь он не был грамотеем. Ему было не до формы - он боролся за спасение своей жизни. Одиночество и неприкаянность - лейтмотив его первых стихов. Воспевая свободу и жажду жизни, Тарон сравнивал себя со скакуном: "Если сам я - спокойно бегущая лошадь, Он остро ощущал пустоту космического пространства и затерянность в нем человека: "… и если все мы, вращаясь лепестками в безосом пространстве, В своих стихах он спорил с Аллой по поводу своего предназначения художника: "Пошел по дороге понятной и близкой, Он заявлял, что отличается от обычных людей "уменьем проноситься над вами и вновь упадать для толчков", что его путь - это "гигантские шаги чайки над морем тоски". Он выражал переполняющее его отчаяние и чувство мести: "… Если рукой вам всплеснул - держите веер кобр, С его уст слетали проклятья обидчикам: "… Вы медленно, мглистыми птицами пролетая, клевали, клеветали. и горькие жалобы на свою участь: "Так, как только связанные люди могут рыдать. Но ты не услышала." В своих стихах Тарон воспевал природу и противопоставлял ей человека. Многие его строки имели апокалиптический характер: "… Зари воспрявшей голова на пальцах ваших заиграла Предрекая конец света, Тарон претендовал на роль пророка-мстителя: "Чистый кобальт морей несу для сияний того, что вы потеряли, И снова пронзительным лейтмотивом - любовная тоска, горе мужчины, покинутого любимой: "Попишу, напишу, то пишу, Сама того не желая и не ведая, Алла своим уходом сделала то, чего не могла сделать своим присутствием. Тарон, наконец, заговорил - свободно, раскованно, непохожим ни на кого языком. Рассказывая о первых стихотворных опытах Тарона, хочется снова вспомнить уже цитированный ранее трактат М. Уэльбека о поэзии и поэтах. "Из-за специфики современной эпохи проявления любви сегодня практически сведены к нулю. Но идеал любви остается прежним… Отсюда несоответствие между идеалом и реальностью, вопиющий разлад, богатейший источник страдания… Все эти общие соображения как нельзя лучше относятся к тому жизненному опыту, который привел Тарона на путь стихотворчества. Не менее верными представляются и дальнейшие размышления М. Уэльбека о роли поэтической (и вообще, художественной) формы и структуры. "Если вам не удастся выразить свое страдание во вполне определенной, четко структурированной форме, вам крышка. Страдание сожрет вас живьём изнутри… 
Время работы над поэтической формой для Тарона ещё не пришло. Но его первые стихи выполнили свою функцию - они спасли его от гибели. Тарон начал понемногу приходить в себя от пережитого им шока. После долгого перерыва Тарон снова стал рисовать. Ему нравились появившиеся в обиходе фломастеры и шариковые ручки. Он выпрашивал дефицитные стержни у всех своих знакомых. Темы рисунков были те же, что и темы его монологов и стихов: боль одиночества, жестокость мира, утраченная любовь. К сожалению, лишь немногие из этих рисунков сохранились. Вот описание некоторых из них, находящихся в коллекции музея РГГУ:

Рисунки этого времени очень лаконичны и часто отличаются своеобразным свирепым юмором и даже сарказмом. Сарказм - защита художника от ополчившегося на него мира. Таковы, например, рисунки, изображающие любовь животных; блядь; моряка и его подругу; немецкого летчика - асса, самовлюбленную красотку. Рисунки сделаны одним росчерком, их функция - дать автору быструю эмоциональную разрядку. Страшное душевное напряжение, в котором находился Тарон зимой 1965 года, нашло выражение и в картинах маслом. Поскольку денег на хорошие краски у Тарона не было, он пользовался самыми дешёвыми баночными эскизными красками, а иногда даже и малярными. Большая квадратная картина маслом на оргалите (примерно 1,5х1,5 м), получившая название "Стой, земля, Христа ради, стой!" изображает вращающийся сгусток материи, в буквальном смысле вызывающий у зрителя головокружение и ощущение уходящей из-под ног земли. Картина пронизана чувством трагизма и распада, как и другая квадратная картина почти такого же размера - так называемый "Многоликий портрет". Ещё одну картину, которую условно можно было бы назвать "Чаша смерти", Тарон написал, накурившись анаши. На удлиненном вертикальном прямоугольнике размером примерно 1,2х0,7 м изображён человек в состоянии оцепенения или прострации, с двоящимся лицом (и сознанием). В руке человека - чаша, очевидно, с ядом… Мрачные синие тона картины внушают чувство безнадёжности и смертельной тоски. Ещё на одной картине, написанной осенью 1965 г., на белой поверхности не полностью закрашенного холста полыхает пламя. Это - своего рода художественный манифест Тарона. Название картины "Вы дураки, но я дарю вам кровь свою". Трагический одиночка, обреченный на заклание - еще одна постоянно присутствующая в творчестве Тарона тема. Знакомство Анатолия Зверева с Тароном.Знакомство Анатолия Зверева с Тароном относится к 1965-66 гг. Где они познакомились – мне неизвестно, однако таких возможностей было много. 
Тарона в этот тяжелейший период его жизни (он только что расстался с горячо любимой первой женой) закружил безумный смерч, он топил своё горе в вине, его носило по всей Москве, по мастерским художников, по квартирам старых и новых друзей и случайных знакомых. Что же касается Толи Зверева, то кочевой образ его жизни хорошо известен. Где-то эти двое повстречались и однажды Зверев появился в доме 21 по Подсосенскому переулку, где на пятом этаже, в крошечной комнатке посреди огромной коммуналки обитал Тарон. На протяжении нескольких месяцев - летом 1965, осенью и зимой 1966 года, Зверев время от времени забредал к Тарону на огонёк. Всего один раз, в самом начале их знакомства, он появился там с художницей Надей Сдельниковой, потом уже они приходили к Тарону поврозь. Зверев был тогда влюблён в какую-то женщину вовсе не из богемных кругов, чуть ли не бухгалтершу или инженершу, назовём её Ольга (точного имени не помню). Как всегда подвыпивший, Толя рассказывал Тарону, как они с Ольгой гуляли по ночной Москве, как она захотела пописать в каком-то дворе и из стеснительности отошла от Зверева подальше, чтобы Толя её не слышал. «Глупая, зачем она меня стесняется? Ведь я её люблю, и как струйка её журчит, тоже люблю!» А про опостылевшую Надю Сдельникову Толя говорил так: «Она меня просит - Зверев, позволь мне быть твоим слугой! Знаю я баб, сейчас готова быть слугой (да и на кой мне слуга?), а потом будет опять приставать!» На вопросы Тарона, почему он кочует из дома в дом, Зверев отвечал довольно туманно, что не хочет жить вместе с собственной сестрой, потому что она покушается на его свободу. Возможно, она норовила упечь полубезумного брата в дурдом - кто её знает? Зверев, конечно, принимал с Тароном дополнительную дозу «лекарства от ревматизма», иногда немалую, и они развлекались в обществе друг друга - рассуждали о жизни или об искусстве, произнося по очереди монологи (Тарон - что-нибудь патетическое и пафосное, а Толя бормотал что-нибудь себе под нос). Случалось им вместе рисовать: разгорячившись, они по очереди покрывали большие листы ватмана мазками или брызгами гуаши или цветных чернил. Священнодействие совершалось, конечно, уже в сильной степени опьянения, и носило состязательный характер. К сожалению, сохранились лишь некоторые гуаши Тарона того времени. Зверевские же экспрессивные опусы впоследствии исчезли в неизвестном направлении. В иные дни Толя и Тарон состязались в стихосложении. Как раз в это время в Тароне открылся поэтический дар, хотя и до того его речь всегда была чрезвычайно образной. Толя же сыпал коротенькими экспромтами, иногда очень забавными. В тетрадях Тарона сохранились некоторые образцы зверевского стихотворчества. «Хоть вперёд - вперёд, Далее - его же рукой несколько туманно: «Зверев - экс кух и колдун и пудем» Там же Зверев даёт следующий иронический совет Тарону: «Шашки: Тарон должен при случае купить или получить в подарок или как угодно стоклеточные шашки, в силу которых он будет усовершенствоваться». В ответ рукою Тарона написано: Почему бы не дружить, если единственный человек, которому доверяешь, это ты. Тем более что я постоянно в краске и среди картин. Мне же негде отдохнуть за чашкой чая или же кофе со сливками. Ты же знаешь, я общительный человек. Хоть и ташизм ввергает меня в страшную изоляцию от всего. Здоровье. Очень трудно без здорового общенья. Я прошу тебя, может быть, у меня ведь уже дети, а ты всё не хочешь. Это ведь тем более друг семьи, хотя бы и созерцательно. (Несколько косноязычно по пьянке, но вполне понятно по смыслу). Во время этих встреч и состязаний я сидела тихо в углу, как мышь. Тарон со Зверевым не обращали на меня никакого внимания, чувствуя себя совершенно свободно. Впрочем, вряд ли они постеснялись бы и кого-либо другого. Мне запомнился ещё один стишок Зверева из множества сочинённых им экспромтов: «Напрасен был замах его - бумажку пнул ногой Егор» Частенько они с Тароном сильно набирались, и Зверев даже несколько раз оставался ночевать. Помню, как-то утром он обнаружился в углу комнаты-мастерской Тарона на полу, где спал сном младенца под листом фанеры. Несколько раз я заставала у Тарона бедную Надю Сдельникову, которая тоже была весьма колоритной фигурой. Одетая в какие-то живописные хламиды, она доставала из своего мешка бутылку, приговаривая: «Пей, Тарон, пей, раз тебе надо». Если бутылки с собой не было, то из мешка извлекались деньги, которые Надя зарабатывала, продавая иностранцам каких-то расписанных ею деревянных кукол. Конечно, я не радовалась её появлению, потому что в пьяном виде Тарон бывал трудно выносим, и после Надиного ухода мне частенько доставалось на орехи. При мне она говорила Тарону о Звереве: «Он выпьет, сколько ему надо, и такой хороший», и плакала. Тарон её утешал, насколько это было возможно. Раза два Надя оставалась у него ночевать, но я её не ревновала, потому что понимала, что она ходит по следам Зверева и очень несчастна из-за разрыва с ним. Кроме того, полнотелая, круглолицая и ничуть не кокетливая Надя была не в тароньем вкусе, о чём он мне докладывал без какого-либо смущения. Тарон, безусловно, испытывал пиетет в отношении Зверева, однако они были совершенно разными и даже противоположными по складу людьми. Тарон всегда стремился доминировать. Зверев же, по-видимому, стал уставать от его напора. Промежутки между его визитами всё удлинялись, и, наконец, он вообще исчез, а вслед за ним - и Надя. В блокноте Тарона осталась запись: «Наде Сдельниковой! Сука, друзьями не бросаются», свидетельствующая о размолвке между ними. Слухи о Звереве до Тарона, конечно, доходили. В частности, он слышал о Звереве от своей сбежавшей жены, искусствоведа Аллы, работавшей в Третьяковской галерее. Зверев частенько там появлялся. Разумеется, бомжеватый вид всегда нетрезвого Зверева вызывал в этом почтенном заведении всеобщее осуждение и даже презрение. Сотрудники галереи звали его «рвотным порошком», о чём с негодованием и отвращением рассказывал Тарон. Именуя себя трагиком, Тарон считал Зверева лириком, хотя любые подобные оценки, конечно, относительны. Талант и личность Зверева Тарон очень ценил, и впоследствии писал о нём в своих стихах в самом высоком стиле. Вот одно из его лучших стихотворений, посвящённых художникам, где на первом месте упоминается Зверев (написано весной 1966г.): Стрижи проносятся стайкой Кроме Зверева, в стихотворении упоминаются поэт Валерий Мошкин, архитектор Иван Кроленко (см. эссе о нём Мих. Айзенберга), художники Александр Путов и Серж Блезе - друзья юности Тарона. P.S. Ещё несколько слов о Звереве. Моя родственница Лариса, умная и культурная молодая женщина, служила в 60-е годы в Пушкинском музее, куда Зверев тоже регулярно захаживал. Однажды он забрёл в отдел экскурсий, где работала Лариса, и попросил напиться. Она напоила его чаем и угостила яблоком. В знак признательности Зверев тут же взял два карандаша, синий и красный, и за две минуты нарисовал очень похожий портрет Ларисы на листе писчей бумаги. Этот портрет бережно хранится у моих родственников, ныне живущих в Америке. Продолжение следует… |
Вступление | Жизнь | Творчество | Люди |
|||
| Copyright © 2002-today 123lab.ru All Rights Reserved | |||